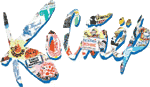Август 2016 года

…

(Окончание. Начало см. в «Костре» № 7, 2016)

Играли в колесико!
Серову выпали «ИМЕНИНЫ».
Дело в том, что в Мышиной Семье дети рождаются так часто, что никому не приходит в голову помнить все дни рождения. Так, черкнут где-нибудь в дневнике: «Шел дождь. Пеленки не сохнут». И всё.
Чтобы жить было интересней, придумали такую игру: на плоской чурочке колесико с меткой приладили, картинки приклеили из старых журналов и слова всякие. (Кстати, никто до сих пор не знает, что значит красивое слово «вакансия», но когда оно выпадает, решено отмечать его коротким молчанием.) Остановится, к примеру, колесико над звездочкой, значит: «ты сегодня дежурный, в главном зале пыль вытираешь», а если над картинкой с бабочкой — «сегодня отдыхай, а завтра посмотрим», и так далее.

Интересно.
Вот, значит, выпали Серову «ИМЕНИНЫ» (просто слово, без картинки).
Понятно, когда, скажем, репка нарисована («пропалывай огород») или там — мячик («будешь нянчиться с малышатами»). А тут — просто слово. Даже с вакансией уже разобрались, знали, что делать, если вдруг выпадет.
С «ИМЕНИНАМИ» все сложнее.
Радость как будто, но всякий раз врасплох. И традиций-то никаких на этот счет, никаких тебе указаний не сохранилось. Хотя странно все это. Мыши — народ трудолюбивый, обстоятельный, порядок уважают. Может, суетятся много, но кто ж без недостатков? Взять, скажем, Лесных. Зайцев каких-нибудь там. Все же друг другу родственники: дети и родители, тетки и племянники, шурины, девери, свояки, а встретятся, только и слышно: «Как здоровье, мамаша?» — «Спасибо, сынок, дрожу помаленьку». А чья мамаша, чей сынок, никто и знать не хочет. Зачем? Придется ведь и капустным листком делиться, и лишнюю морковку отдавать. Зима на носу, а ну как себе на шубку не хватит? Одним словом, Лесные. Каждый сам по себе. Или норушки вот у них! Вроде не бедствуют, полно жилья, а ни у кого своей нет. Чего уж проще договориться: в этой пусть Косых живут, в той — Русаковы, а за опушкой — Трусевичи, и все дела. Так нет же! Все в одну набьются (негде морковке упасть). А две другие — пустуют. Лесные...

У мышей не так все. Обстоятельнее как-то. В своде «Основных правил Мышиной Жизни» так и написано: «Каждый безымянный имеет право на родительскую любовь и всеобщую заботу. Каждый, получивший имя, имеет право на собственный уголок». Уголки, конечно, бывают разные: собственно уголки; закутки (то есть два уголка) и комнатки (два уголка и дверца). Безусловно, были временные неудобства, когда приходилось и спать под одним одеяльцем, и есть из одной мисочки, но это уже совсем другой вопрос. Главное — система жизни, традиции предков.
Правда, с «ИМЕНИНАМИ» так еще и не решили.
У нас столько традиций, что не на одну систему хватит. Взять хоть Великий день Мышиного братства — прекрасный праздник! И не случайно он приходится на последний день зимы, когда съестные припасы заметно сократились, когда начинается строгий учет каждого зернышка, каждой малой семечки. Да что говорить, крошки и те — по коробочкам разобраны: крупные, номер один (экстра), — с серную головку; средние, номер два, — с маковое зернышко; и мелкие, номер три, — навроде цветочной пыльцы. И вот над горизонтом общей бережливости вкусной кометой появляется этот праздник, чтобы всем (пусть ненадолго) стало сытно и тепло в серых животиках, чтобы глазки маслянисто заблестели, чтобы усы засеребрились сальцем, а на щечках ванильным облачком застыло удовольствие. Чтобы хватило сил дождаться лета, окутаться его полуденной негой и слушать, слушать, слушать под голубым куполом тишины жаворонковый хрустальный колокольчик.
А День парашютиста?! Чем не традиция? Когда семейные пары собираются на лысой опушке и соревнуются в дальности полета одуванчикового парашютиста. Стебель, как правило, крепко держат у основания и вместе дуют на цветок. Незабываемое зрелище! Этот праздник не имеет постоянной даты (оно и понятно — ветер, дождь и другие погодные нюансы, потому-то и назначается день в день, а в качестве приза — прошлогодний одуванчиковый мед), но очень-очень любим в мышиных семьях.

А День малыша (последний четверг месяца, когда всем безымянным мышаткам даются имена)! Раньше, говорят, проще было: Мышантий (что значит в переводе «верный слову отца, папин помощник») да Пипилина, а нынче чего только не услышишь: Эдамер, Пармезан, Вакцина. Городские всё.
А Праздник большой репы, а Неделя войлочной моды, а карнавал сентябрьский, наконец, Ледовый марафон (по замерзшей канавке в шерстяных носках)! Все это — традиции.
Только с «ИМЕНИНАМИ» все как-то.
А тут был «Вечер для тех, кто не помнит за сколько» (кстати, один из совсем новых праздников). Мыши, вообще, народ к старикам уважительный. Всегда с душой. Так, чтоб сердцу радость. Вот и собрали старейших. Картофельную шелуху поставили, горох моченый, чтоб жевать легче (у некоторых ведь и зубов уже нет). Стали им сказки вслух читать (мыши к старости становятся подслеповатыми, и им уже трудно читать книжки самостоятельно). А мышиные народные сказки — тоже ведь традиция! Одна только сказка «Про Мышу-царевну и Котея Беспризорного» чего стоит! Фольклор! Слушали внимательно. Только дед Порей сперва все переспрашивал: «Чаво пищиття?» — и за ухо себя дергал (многие мыши с возрастом становятся также глуховаты и подозрительны), а потом и вовсе заснул, тоненько свистя заложенным носом.
Так вот. Выпали Серову «ИМЕНИНЫ».
Если, скажем, они выпали бы Цукерману, он бы непременно сказал: «Мне было бы так приятно получить от вас в подарок новую марку с мухомором». А если именинником вдруг оказался Прошка Хвост, то все бы услышали хриплое: «Эта. Угощаю». Но Серов не такой. Серов — особенный. Поэтому, когда «ИМЕНИНЫ» выпали Серову, произошло следующее.

Он задумался на секунду (вряд ли дольше), потом вскочил со стула, в волнении обошел чурочку с колесиком, бормоча: «А что, если... если сегодня попробовать... попробовать...», остановился резко. Хлопнул ладошками и сказал, таинственно так сказал: «Как стемнеет, жду вас у Холма всех надежд». И скрылся. Вот так. И в этом весь Серов. Не где-нибудь в малой буфетной, чтобы втихаря угостить друзей сушеной сливой, припрятанной бабкой Шнырей к Новому году, как это сделал бы на его месте Огарок, а у Холма всех надежд!
Этот холм — самая высокая точка нашей округи, а примечателен тем, что туда забираются все, кто хочет дать своей мечте крылья, как поэтично выразилась Мормышка. Проще говоря, хочешь, чтобы сбылось твое желание, заберись на вершину, почувствуй ветер и скажи вслух о своем сокровенном и лапкой махни (не так, как «прощай», а вроде как «до свиданья»). А тот, мудрый, кто создал все это — и бархатный холм, и ручей, струящийся юркой змейкой у подножия, лес этот, лежащий мохнатой сторожевой собакой на границе земли и неба, подхватит твою мечту бережно, не даст ей, хрупкой, упасть, разбиться, с собой возьмет, а уж потом, если мечта твоя хорошая, не бессмысленная, она вернется сама. Явью. И это уже есть Большая Мечта, куда позвал Серов! И сразу понятно стало. Это — СЕРЬЕЗНО.

Вечерело...
Оранжевое солнце опустилось в лес и теперь упрямо продиралось сквозь ветки и сучья. За горизонт. За блестящими золотистыми облаками торопились пушистые розовые, на них наскакивали всклокоченные лиловые, оставляя за собой чернильные топи уже ночного неба.
Поеживаясь от сырости, пропитавшей даже шерстку, мыши направились к Холму всех надежд. Хорошо зная дорогу, они уверенно двигались в вязкой темноте, сделавшей сразу всех похожими. Вдруг в небе зажглась звезда. Потом еще и еще. Но это были странные звезды. Зеленые, желтые, красные, они волшебным гейзером рвались в бездонную ночь с самой вершины холма, высоко взлетая и падая брызгами вниз. Тут звезды взметнулись вновь, осветив на холме фигурку в желтом шарфе.
Серов!
Так вот что он изобретал целый месяц, вечерами закрывшись в своей лаборатории. А ведь так важно иметь собственный фейерверк и любоваться собственными падающими звездами, и загадывать желания, и ждать возвращения мечты!
С тех пор именины отмечаются фейерверком у Холма всех надежд.
И это уже традиция.

Цукерман никогда, слышите, никогда не считал себя трусом.
Он сплавлялся на дощечке вниз по ручью. Он таскал из-под носа у хозяйки семечки, когда она после дневных хлопот сидела на скамеечке. Он не боялся идти по неосвещенному коридору к гороховым складам. Он был единственным, кто смело перевязывал пораненные лапки и отважно ставил желающим клизмы.

Но Цукерман боялся летать.
До дрожи.
До икоты.
До обморока.
Не так давно Серов наконец-то собрал МИМ-1. Это такой летательный аппарат, листоплан. МИМ — потому что из листа мать-и-мачехи.
Ну, по порядку. Огарок с Прошкой Хвостом притащили с хозяйской помойки кой-чего: крышечку пластиковую (давно в буфетной столешницу поменять хотели), банку консервную из-под сгущенки — со стенок сладкое соскребли — малышатам на полдник (то-то радости было), а саму банку бабке Шныре отдали под кухонные надобности, лоскутик цветной (Мормышке подарили — на сарафан там или на платьице — она мастерица вообще, Мормышка-то) и книжечку. Тоненькую. «Любимые самоделки» называется. Сперва выкинуть хотели — букв мало, картинки неинтересные (черточки какие-то, стрелочки), потом решили Серову показать — он разберется. А Серов обрадовался так. Лапкой по стрелочкам водит, хмыкает, и глаза, как у голодного. Сказал: чертежи. Еще сказал, если такие же черточки увидит кто, принести обязательно. Голова.

Огарок пару раз шерстил кучку — приятное Серову хотел сделать, — нашел только три листика от календаря. На одном — анекдот про обезьяну (себе оставил, вечерком посмеяться), на других — цветочки какие-то нарисованы, и про них, про цветочки то есть, написано все: и где растут, и от чего помогают. Эти Цукерману отнес, он у нас вроде лекаря. Всё травки какие-то ищет, корешки роет. Потом бирочки к ним привязывает. Дневник наблюдений ведет. А тоже все с календарного оборвыша началось. Попался однажды такой в лапки. С одной стороны цифирка стоит, с другой написано: «Как вылечить понос». Ну, Цукерман и заинтересовался. А тут еще Куська Малыш животом маялся (глотнул все-таки «клеверовых пузырей»). Вот Цукерман и решил попробовать. Собрал травки, какие указано было, заварил их, скорлупкой мисочку прикрыл — настоял то есть — и давай этим отваром Малыша отпаивать. Помогло. С тех пор чуть что — Цукермана зовут. Понятно, и он не всегда знает, как лечить, но придет, сядет, лапки так корзиночкой на животе пристроит, посмотрит своими грустными глазами, скажет непонятное: «О темпера, о морес!» (тоже вычитал где-то), и вроде легче станет, будто кто-то мягкой кисточкой провел, смахнул всю хворь.
А с листопланом вот как было. Серов по черточкам-стрелочкам быстро сообразил все. Сделал каркасик, рамочку, ремешочки из тимофеевки плетеные приладил. Только с тканью загвоздочка вышла. Нету такой ткани. Так Серов что удумал. Насобирал листов мать-и-мачехи. На каркасик натянул. Листы высохли, словно материал, — сверху прорезиненная тряпочка, а снизу мяконькой такой баечкой. Красота!
Серов первым и испытывал свой аппарат.
Шлем из ореховой скорлупы надел. На всякий случай. (Мормышка заставила.) В ремешочки впрягся и взмыл с опушки, и... забыл про все.
ТОЛЬКО ОН и НЕБО, что несет его на своих невидимых волнах, покачивает бережно, убаюкивает, а внизу, будто сон, — поле фисташковое, чешуйки водоемев блестящие, домики — игрушечные такие кубики... И он — надо всем этим тоже ненастоящий какой-то, возвышенный.
Удивился.
И времени здесь нету.
Исчезло... Кончилось, может?
Время — оно ведь как крупка. Складываться должно куда-то.
Там, внизу, есть пространство. А здесь его нет. И времени нет, значит.
Понял вдруг. Время для каждого свое. Разное. Для каждого! У кого-то как бусики цветные, маленькие. И сыпется оно быстро-быстро так, звонко. У кого-то — валун серый, большой, с зелеными мшистыми заплатками; у кого-то — шуршащие конфетные фантики — пустое и легкое; а у кого-то — замысловатое, как шахматные фигурки (видел в журнале одном), черно-белое.
Еще понял. Пространство тоже у каждого свое. Какое только не бывает! И гулкое жестяное, как ведерко, и белое фаянсовое, вроде вазочки для печенья, и тесное бархатное — мешочек для секретов. Разное...
А в небе разве нужно это все?

Отяжелел от мыслей. Почувствовал — идет на снижение. Отметил где-то галочкой — чем ближе к земле, тем мысли площе, теряется объем, что ли? Как шарик воздушный. Без воздуха — ничто, как тряпочка резиновая. Почти бесполезная вещица. Серов очнулся внизу уже. Жестко.
Потом все летать обучились. Потихоньку. Малышата даже. Использовали листоплан по-разному. Кто для удовольствия, а кто по делам (знакомых повидать или на дальнее поле — за колосками). Удобно. Жаль только, что листоплан на одного рассчитан.
Но Серов уже думает над этим. Мечтает двойной сделать, чтоб в свадебное путешествие по воздуху летали. Чтоб красоту запомнили, навсегда мудростью нежитейской наполнились, а то потом мышата маленькие, пеленки-заготовки, зимние вечера у свечного огарка, да мальков в ручье крошками кормить, улыбаться умильно. Тоже счастье, но другое. Земное какое-то, короткое.
Да и Цукерман понимал все это.
Слушал.
Вздыхал прерывисто, но побороть свой страх не мог.
До того самого случая.

Бабка Шныря захворала. Понятно: то на кухне с кастрюльками, то в чулан туда-сюда (ведь не девочка уже), то малышат приструнить. Вот и слегла. Цукерман пришел. Трубочку багульниковую приставил к сгорбленной бабкиной спине, будто искал что. Вздохнул глубоко, платком из цыплячьего пуха бабку укутал и пошел корешки заваривать. Да сам понимал, тут посерьезней лекарство надо. Читал как-то в оборвышах (там еще сверху «Помоги себе сам» написано было), будто горчичники очень помогают. Но где же их взять, горчичники-то? Пробовал как-то делать «крапивники» (Огарка лечил, кашлял тоже сильно, аж собаки пугались) — нарвал двудомки и, пока листы не завяли, на спину. Между лопаток. Огарку. Чуть не погубил сердешного. А он, добрый... Не вспоминал потом. Только когда новое что пробовал, спрашивал всегда: «Не ззётся?»
Но Цукерман страдал. Вот она — цена врачебной ошибки. А бабку Шнырю вылечить НАДО, она ведь его самого на коленках качала когда-то.
За этими думами задремал Цукерман. Так прямо на табуретике и задремал, у стола, где миска с корешками стояла.
И снится ему сон. Ясный такой, как и не сон вовсе. Будто он, Цукерман, летит! Над родной опушкой (маленькая такая бархатная пуговка!), над ручейком знакомым (ниточка голубая!). И страшно так, аж дух захватывает. А остановиться нельзя. Несет его сила неведомая, за лес дальний темный, за озеро за Гусячье, словно нужно туда, словно там сокровище дорогое, клад бесценный. А дальше, за Гусячьим, полянка — неприметная вроде такая сверху, не больше носового платочка кажется. И слышит Цукерман голос чей-то тихий, ласковый: «Сам найдешь, другого спасешь». Хотел он спросить, что искать-то и где, да с табуретика свалился.
Очнулся на полу, а сам все повторяет странные эти слова: «Сам найдешь, другого спасешь, сам найдешь...» А чувство такое, будто то бесценное, что искать надо, там, во сне, и осталось: на той полянке неприметной. Так разволновался, что уже хотел к Серову бежать, просить, чтоб слетал туда, вдруг правда все. Штанишки подтянул, панамку с крючка сдернул и вспомнил: САМ найдешь. САМ. Значит, САМОМУ лететь надо. Снова разволновался. Погремел баночками. Нашел валерианов корень. Пожевал немного. Успокоился. Решил: сам полечу, сам все проверю. Сам.

Утреннее небо медленно наполнялось тягучим малиновым цветом, как сиропом. И Цукерману вдруг в голову пришла нелепая мысль, что если сегодня пойдет дождь, то он будет непременно сладким и липким. Еще представилось, как малышатки бегают, высунув языки, ловят сладкие малиновые капли, а бабка Шныря деловито ставит во двор самую большую кадушку...

Шныря! Как она? «Вот слетаю быстро, посмотрю, что там, и проведаю ее». Думает Цукерман. Его усы подрагивают от волнения, хвост натянут струной. Он пристегивает ремешки листоплана, ловит ветер (как учил Серов) и... ВЗЛЕТАЕТ!!!

Он, Цукерман, ЛЕТИТ! Остается позади родная опушка — бархатная пуговка, ручеек — ниточка. Впереди озеро Гусячье, темное, непрозрачное. (В легендах про него нехорошее сказано, будто бы все отражения исчезают в озере этом, как камушки брошенные. И гуси, что водятся там, стерегут их, а ночами на себя облики чужие примеряют и гогочут страшно так, дико. Только, наверное, выдумка все это, чтобы не убегали от дома далеко да в чужое хозяйство нос не совали.)
А вот и полянка заветная.
Только чем ближе к ней, тем больше разочарования: полянка как полянка, самая что ни на есть обыкновенная! Стебельки невзрачные, метелочки пушистые, клевер беленький, манжетки резные, еще какая-то травка незнакомая — тощенькая, цветочки крестиком и стручечки сабелькой.
Огляделся Цукерман. Земляничку съел. Подумал, может, спросить у кого? Да вон у божьей коровки. Подошел, кашлянул предупредительно, а она — улетела (напугалась, может, пугливые они, коровки-то).
Решил возвращаться. Сон — он и есть сон. А дома — бабка больная. Стручочков незнакомых прихватил, так, на всякий случай. И — обратно, пока ветер попутный.

Вернулся.

Стал стручочки убирать, на оборвыш наткнулся, а на нем эти самые стручечки-то нарисованы, подписано: горчица. Чуть не задохнулся от радости(!). Вот оно, сокровище дорогое, клад бесценный. Сбылся сон-то! Искал чудеса невиданные, а чудо — простое, незамысловатое оказалось — лекарство для бабки Шныри (совсем ведь забыл — «другого спасешь»). Что может быть дороже? Не мешкая, стручочки смолол. Одуванчиковым клеем (Серов изобрел) подорожники намазал и пылью этой горчичной присыпал.
К бабке Шныре прибежал. Попрыскал на горчичники (как в оборвыше сказано — теперь уж все точно!). Бабку ими обложил, сверху одеяльце, тулупчик, платок цыплячий, еще какие-то тряпочки — теплей чтоб. Часы свои подвел. Ждать уселся. Снял потом горчичники. Бабке жилетку надел теплую, чая дал брусничного. Трех дней не прошло — поправилась бабка Шныря! Лепешек желудевых напекла, малышаткам наушники вязать взялась... Мышиная жизнь снова пошла своим порядком: Прошка Хвост — по хозяйству, Мормышка — за порядок отвечает, Огарок — за то, чтобы в этом порядке свои исключения были, Цукерман — лечит, Серов — весь в науке. Вот, к примеру, еще один листоплан собрал. На нем красный крестик свекольным хвостом чиркнул — Цукерману в подарок. Ведь медицинская помощь должна быть скорой, а двухместный листоплан для путешествий Серов еще сделает.
Обязательно.

| Елена Эргардт |
Художник Елена Эргардт | |
| Страничка автора | Страничка художника |