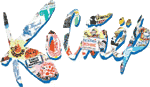Июль 2016 года

…


Близился великий День Мышиного братства, когда забываются прошлогодние обиды, мелкое воровство, неласковые дразнилки. Когда из потаенных баночек достаются вкусные вкусности, из заветных коробочек разные разности, а из старинных шкатулок всякая всячина. Наряжается и веселится стар и млад. А на общем столе от каждой мышиной семьи должно быть одно блюдо (несемейные могут принести самодельные фонарики и хлопушки).
Бабка Шныря давно уже заприметила в хозяйских сенях мешочек с зерном (вероятно, не нужный, иначе зачем в сени-то ставить?). Прокусила, по старинке, дырку и отправила своих внуков, внучатых племянников и прикормышей перетаскать по одному зернышку к себе. В норушку. Конечно, небезопасно, но не идти же на праздник с пустыми лапками!
Решено было совершить по двенадцать ходок каждому (больше нельзя, пропажу могут заметить, начнется травля, а еще малышей поднимать, в свет выводить).
Прошка Хвост, Огарок и Цукерман — все были родственниками Серова и приходились ему то ли троюродными братьями, то ли свояками, сейчас и не разберешь. Да и к чему разбирать, когда порой серое шерстяное одеяльце (бывший хозяйский чулок-трофей позапрошлой осени), а иногда и тарелочку, делить приходилось!
Так вот, на последней ходке пристал к Серову залетный галчонок, предложил за зернышко блестящий фантик. Хорошая штука — можно шапку-треуголку сделать, как у генерала, а можно вместо банта на ниточке прицепить. Да мало ли куда! Вещь, одним словом. А тут еще Огарок пробегал мимо, пропищал завистливо: «Ух ты, блестит-то как!» — и носом шмыгнул.

Ну, и не выдержал Серов. Сломался. Притащил фантик в норушку, положил в свой сундучок, сверху ветошкой прикрыл. Да разве бабку Шнырю обманешь! Села она за стол, очки поправила, митенки свои подтянула и начала зернышки пересчитывать. И не досчиталась. Одного. Взглянула поверх очков с укоризной, а тут еще Огарок пищит: «Может, закатилось куда?»
Стыдно стало Серову. Даже уши вспотели. И решился он, чтобы вину искупить, на подвиг. Помнил, что в подполе у хозяйки головка сыра лежит. Настоящего. Голландского. Рискнул. Пробрался. Выел в самой сердцевине, вроде окопчика. Сидит. Не дышит. Тут или пан, или пропал.

Дверца приоткрылась. По стенам кинулись огромные тени. Ступеньки скрипят — это хозяйка переставляет свои толстые ноги в суконных ботика.
Ну вот. Что-то сейчас будет! Сердчишко у Серова екнуло и до самого кончика хвоста докатилось.
УРА!
Слава мышиной хитрости!
Слава смекалке! Все вышло, как задумано!
Почти над самым носом горячим флажком свечной огонек взмахнул, чуть усы не спалились. Хозяйка — в крик! Серов — шмыг! А головка сыра (настоящего, голландского) — уже поверх компостной кучи лежит. С большой дыркой вроде окопчика. Хорошая хозяйка им попалась. Брезгливая.
Серов своих позвал. Без объяснений. Поднатужились. Он сзади подхватил. Прошка Хвост и Цукерман — по бокам, а Огарок — впереди бежит, пищит восторженно: «Настоящий! Голландский!»
Да! Славный был праздник! Чего там только не было! И крупка разная в мисочках, и целые зернышки, сухарики хлебные, на сладкое — натурального рафинада пара кусочков, круглая бомбошка (сынок хозяйский, раззява, выронил). Даже изюмки кто-то притащил. Ну и, конечно, головка сыра. Во главе стола. Конским волосом нарезали. Всем хватило. А уж как плясали! И стар, и млад. Только бабка Шныря в уголке на табуретике сидела — артрит проклятый.
А из фантика Серов Куське Малышу вертушку смастерил. Пусть порадуется.

Вот ОНО! Серов влюбился.
Да и как не влюбиться! Шерстка беленькая, будто первый снежок, глазки — клюковки. Ушки маленькие, нежные, розовые. На лапках белые
кружевные перчаточки... Кто? Откуда?

Как-то забрался на хозяйскую кухню (может, закатилось чего, пригодится) и... обомлел. В отдельной квартирке (правда, маленькой, их норка раз в сто больше будет) за серебристыми прутиками — ОНА! Чудо как хороша! Шерстка беленькая, глазки-клюковки. Чего уж...
Первым Цукерман заметил, что с Серовым не то что-то. Сидит. Задумчивый. От колбасной шкурки отказался. Мормышка ему шарфик связала желтенький, даже спасибо не сказал. Так, буркнул что-то. А на следующий день усы сальцем намазал и — на кухню хозяйскую. Огарок сам видел. Ходит вдоль клетки Беленькой на задних лапках. Туда-сюда, туда-сюда. А она даже не чихнула в его сторону!

Дальше — больше. То макаронинку ей притащит, то огрызок яблочный положит за серебристый заборчик. Будто невзначай. Да куда там! У нее в фарфоровой тарелочке специальная еда лежит: ровненькие такие катышки в крапинку и морковочка яркая. Звездочками нарезана. Во как! И Мормышку жалко. За что ей это? Сидит, бедная, в уголке. Слезки глотает. Из серовских выходных штанишек репей и тимофеевку вытаскивает. Гуляли, бывало, вместе... Хорошо было... А тут — Беленькая!
Серов перед ней (на свой страх и риск ведь, а ну как хозяйка войдет!) сальто делает, хвостом щелкает, как дрессировщик в цирке. Сам научился. На Новый еще год. Мормышке первой тогда показал. Похвастался. А Беленькая знай в колесике лапками перебирает. Тренажер у нее специальный такой.

Серов похудел даже. Осунулся как-то. Чем бы все это закончилось? Да, только пропала Беленькая. То ли на тренажере перенапряглась, то ли в катышки не те крапинки попали — неизвестно... А в серебристой квартирке кто-то мохнатый поселился. Даже глаз не видно. Спит целыми днями.
Серов сначала пластырем лежал. Не двигался. Прошка Хвост валерьянки на ватке принес (еле-еле у Беззубого Васьки выпросил), так Серов и усами не пошевелил. Во как...
Только Мормышка сердечного и выходила. Потихоньку-потихоньку. То лапкой погладит, то моченое зернышко скормит, то песенку их любимую «Как кота хоронили» споет...
По весне на солнышко вышел. Погреться. Вспомнил Серов и шарфик желтенький, и тимофеевку.
А Беленькая (ее на самом деле Цыпой звали)… Что Беленькая? Всякое бывает...

Случилась беда. БЕДА. Б Е Д А.
Как ни напиши, все равно по-другому не скажешь.
Хозяйка Одноглазого к себе привела и в кухне пристроила (как раз около выхода № 8). Конечно, на сельхозработы в поле да в лес за грибочками или еще куда из норушки выйти можно, но чтоб развеяться там, посмотреть, что у людей нового, теперь ни-ни.
Сидит Одноглазый на кухне хозяйской. Терпеливый. (У них это у всех в роду.) Ждет. Даже кажется иногда, будто от его глаза лучик по стенкам вжикает.

Малышам, понятно, сказали, чтобы от выхода № 8 держались подальше. Не пугали, конечно, все шутками-прибаутками: «Придет котенька-коток, схватит мышку за хвосток». Кто же знал, что Куська Малыш таким любознательным-то окажется! Ведь с малышами только «ути-пути» там или «иди поиграй сам в прятки». И всё. А этот — нет. Услышал наверху мерное такое гудение (это Одноглазый заурчал, вспомнить страшно), Прошку Хвоста спрашивает: «Это что?» Прошка отмахнулся. Не видишь, мол, тяжелое несу. (Лесные шишкой поделились, целой, некусаной, так он ее на склад тащил, не до разговоров было.)
Куська к Огарку: «Что это? Что это?» Огарок умилился, пропищал слащаво: «Ктё зе это такой у нас плиставуций?»

Цукерман бежал мимо. Остановился. Часы карманные вытащил на цепочке, чтобы стрелки перевести. (Часы ему городской дядюшка к празднику подарил. Без стрелок, но от всей души. Так Цукерман что придумал. Стрелки из сухих веточек приладил. Часы — как новые, только через каждые тридцать шажков стрелки передвинуть нужно, а то отставать начнут. А неточные часы ведь никому не нужны. Вот Цукерман и остановился.) А тут еще Куська Малыш: «Что это? Что это?» Ну, Цукерман и брякнул: «Хозяйкин сынок, мол, трактор игрушечный по полу катает». Брякнул. И дальше побежал.
А Куське Малышу интересно все! Он настоящий-то трактор еще не видел, а тут — игрушечный! (У мышат, известно, какие игрушки: пустая катушка, пробка бутылочная, пуговица со звездочкой да катышек газетный.) Ну, скамеечку к лесенке приставил и полез к 8-му выходу, откуда звук доносился. Не успел оглядеться, как Одноглазый когтем и зацепил Куську — он только икнуть и успел. Хорошо, Прошка Хвост со склада обратно шел. Услышал. Что делать? К Серову кинулся, по пути Мормышке крикнул, чтобы малышей увела.

Застал Серова в лаборатории. Серов так просил называть большую кладовку, где раньше луковую шелуху держали, а теперь он хранит там всякие мудреные штучки и свои изобретения. Но над ним никто не смеется. Серов — голова. Рассказал про Одноглазого. Серов нахмурился. Порылся в шкафчиках. Достал резинку шляпную, стеклышко круглое на черной ручке. Это стеклышко еще прошлым летом хозяйкин постоялец в траве оставил, все шептал: folia urticae. Ботаником его звали. Мышей уважал очень: если заметит, так высоко коленки задирает и губы в узелок, как на параде, даже неловко. Серов первым стеклышко нашел. Хотел из-под него земляничину вытащить, уж больно здоровая была! Приподнял, дернул за стебелек, а ягодка-то, тьфу, меньше божьей коровки. Другой бы дальше пошел, но не Серов! Серов — голова. Стал он под это стеклышко всякие камушки засовывать, веточки. И видит, что ни камушек, то валун, что ни веточка, то бревно. Смекнул — не простое стеклышко. Волшебное. К себе унес, авось пригодится. Вот и настал день. Пригодилось.
Побежали с Прошкой Хвостом к лесенке. Серов наверх вскарабкался. Резинку шляпную себе к хвосту привязал, а конец — Прошке кинул, сказал натянуть крепко и тренькать по команде, а стеклышко волшебное к глазу приставил, высунулся на кухню.
А там, мамочки родные, Одноглазый Куськой Малышом играет: то подкинет, то снова к себе подтащит. Развлекается, злодей. Малыш, бедняжка, еле живой от страха-то, глазки закатил, к худшему приготовился.
Тут Серов хвостом отмашку дает. Прошка внизу тренькать начинает: «Пау-у-у-у. Мау-у-у. Ма-мау-у-у». Одноглазый вздрогнул. Смотрит, а из дырки за ним чей-то громадный глаз наблюдает. Не иначе, кот-великан объявился. Орет как сирена. Вот-вот самого Одноглазого схватит, а если у него глазище такой, то лапищи-то какие?!
«Угощайтесь, пожалуйста», — мякает Одноглазый и Куську Малыша к дырке подкладывает, а сам с поклонами, с поклонами — прочь...
Серов же с Куськой спустился. А внизу уже и бабка Шныря стоит с кружкой молока. Тепленького. С медом липовым.

Лето — благословенная пора.
Лето — сезон мелких земных радостей, когда повсюду слышны скрипичные оркестры кузнечиков, а ночью светлячки крутят свои шарманки под зелеными фонариками, когда бабочки устраивают маскарады, таинственно шурша легкими, будто из папиросной бумаги, крыльями. Лиловыми, пурпурными, бирюзовыми. А у стрекоз в разгаре воздушное шоу («пике», «восьмерка», «штопор» — и все это в радужном слюдяном сиянии).
Лето, когда каждое утро взрывается фейерверком искрящейся росы, а вечерний туман — только занавес для загадочного завтрашнего дня, для нового спектакля под названием «ЛЕТО».
Легкая суета. Порхающие улыбки. Приглашения взглянуть на звезды. Танцы под луной.

Лето. Время варить клеверовый квас. Чудный. Розоватый, с воздушной перламутровой пенкой. И никто, не спорьте, никто не делает его лучше бабки Шныри. Да, согласен, у соседей кисличный лимонад вкуснее, чем у нас. Но не квас, только не квас!

Иногда, в урожайные годы, бабка его даже продает на Курином рынке. Все так и называют «Клеверовый. Шныревский». (Наперсток — две горошины, полнаперстка — одна.) Хвалят.
Сядешь, бывало, в теньке, выпьешь клеверового кваса, и слова сами, ладненько так, в рифмы складываются: «трава-мурава», «ромашка-букашка», а длинные, сумбурные мысли, которые обычно скручиваются узлами и спутываются в клубки, вдруг становятся коротенькими и ясными и могут выразиться в одном слове: ХО-РО-ШО. Например, так. Или: ДЕНЬ. Так, например.
Поэтому-то наш «Клеверовый. Шныревский» и считается лучшим в округе, да и за его пределами тоже. Вы скажете: дорого (наперсток — две горошины, полнаперстка — одна). Дорого. Но он того стоит.
Рецепт этого кваса бабка Шныря держит в строжайшей, в стро-жа-а-а-айшей тайне. Ей самой он достался от прабабки Овсянихи, а той — от троюродной тетки (имя в летописях, правда, уже стерлось) по прозвищу Прокуда. Ну а еще раньше, этот рецепт будто бы принесли беглые корабельные мыши. По легенде.
А раскроет бабка Шныря тайну старинного напитка лишь тогда, когда уже не сможет варить клеверовый квас в одиночку и ей потребуется помощница.
Послушная — раз.
Аккуратная — два.
Терпеливая — три.
Такая, как Мормышка.
Только Мормышка не хочет ждать (а это уже — четыре).
Мормышка хочет сделать собственный квас. Еще ароматнее и вкуснее (а это уже — пять!).
И вот лежат в сушилке головки розового клевера (оттенок «июльский рассвет»). В бочонках отстаивается роса (сорт «соловьиные слезки»). В деревянном коробке — пять кусочков морковного сахара (не доедала всю зиму!). В фарфоровых ступках — мята (два листочка) и земляничный порошок (десертная ложечка). В баночке с медвежонком — осьмушка елового зерна (заняла у лесных).

Теперь… Теперь сыплем в котел клеверовую сухую стружку, медленно, только очень медленно заливаем свежевскипяченной росой, процеживаем через паутинку, кладем пять кусочков морковного сахара, мяту (два листочка) и земляничный порошок (десертную ложечку). Прикрываем листом подорожника на три часа (попросить Цукермана напомнить время). Вот. Снимем первую, еще желтенькую пенку, снова процеживаем (паутинка должна быть новой!). Разливаем в бутылочки вишневого стекла (Мормышка убеждена, что именно вишневое стекло должно придать ее квасу незабываемый оттенок). В каждую бутылочку — по одному нюху елового зерна (для несведущих — один нюх в Мышиной весовой системе — такая мера веса, которую уже почти невозможно попробовать на вкус, но еще возможно унюхать). Плотно закрываем рябиновыми пробками (спасибо Серову — сделал заранее). На настенном календаре (подарок Прошки Хвоста) отмечаем крестиком День открытия нового кваса (сказать Серову, пусть придумает название, у него это славно выходит).

На ходу снимая передник, уставшая, но довольная Мормышка идет к себе в спаленку и, еле попадая в рукава, натягивает пижамку. Падает на подушку и тут же засыпает, даже не успев натянуть синее шерстяное одеяльце.
И вот наступает желанный день. День, помеченный крестиком. День открытия нового кваса. День-радуга. День-мечта.
Первый наперсток, конечно, Бабке Шныре (по старшинству, вот удивится!), второй — Серову (лучшему другу), третий — Цукерману (спасибо, что напомнил время), четвертый — Прошке (за календарь), пятый — Огарку (за то, что не мешал) и всем-всем-всем (пусть радуются!!!).
НО... Бабка Шныря делает глоток. Сначала недовольно морщится, потом ее глаза становятся такими большими, что стеклышки очков кажутся просто слезинками на переносице. Потом она мотает своей головой в крахмальном чепчике и чихает. Чихает так, что с антресолей падает нахальный древесный жук (три года за чужой счет, как вам это нравится?!) и давно потерянные валенки.
Не дожидаясь конца дегустации, Мормышка кидается в заросли тимофеевки и плачет там, горько и слюняво.
Серов (лучший друг и придумщик) утешает и ласково дует на покрасневшие Мормышкины уши.
«Почему, Серов? Почему?» — рыдает она и вдруг, подняв просветлевшие глазки, шепчет: «Это Цукерман со своими часами! Он же сам стрелки переводит. И Прошка Хвост — календарь-то позапрошлогодний...»
В несчастных Мормышкиных глазах глянцево отражается летнее небо и парящие в нем — смотри, Серов, смотри! — прозрачные шарики.
Чудо! Диво!
Небыль!
Это так красиво, что снова хочется плакать. От счастья.
 |
 |
А совсем рядом, незаметный в густой траве, сидит Куська Малыш (ведь опять не досмотрели!) и, макая соломинку в бутылочку вишневого стекла, выдувает розовые пузыри (оттенок «июльский рассвет»), и они, отрываясь, летят, летят по лазоревому небу так красиво, что хочется плакать от счастья.
Значит, все-таки Огарок. Теперь ясно, почему он моется только лапками, без мыла. Но это не важно, потому что он все равно наступил. День-радуга. День-мечта.
Послесловие
А Серов (лучший друг и придумщик) разлил «новый квас» в бутылочки поменьше с надписью «клеверовые мыльные пузыри», и Мормышка раздала их мышаткам всей округи, да и за ее пределами тоже.

(Окончание в следующем номере)
| Елена Эргардт |
Художник Елена Эргардт | |
| Страничка автора | Страничка художника |