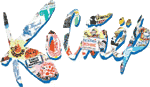Май-июнь 2010 года

…

СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Вы часто встречаете в нашем журнале стихи петербургской детской поэтессы Людмилы Фадеевой. Все они веселые, жизнерадостные, и создается впечатление, что у автора было безоблачное радостное детство. «Вы, наверное, в школе были шумной, озорной», — говорят ей ребята на поэтических встречах. «Может, и была бы, — отвечает Людмила Леонидовна,— если бы не война, которая украла у меня детство».
О своем школьном детстве Людмила Фадеева написала маленькую повесть, чтобы нынешние озорные школьники знали, как жили и учились их ровесники в трудные послевоенные годы.
Сегодня мы предлагаем вам отрывок из автобиографической повести Людмилы Фадеевой «Солнечные дни».
|
Брось сердиться, Маша! Ласково взгляни: Жизнь прекрасна наша, Солнечные дни!.. Из довоенной песни |
ЗДРАВСТВУЙ, МАЙ ВЕСЕЛЫЙ!
— Мне опять снилось, что меня пытали!
— И ты ничего не сказала?
— Нет! — шепчутся девчонки рядом со мной.
Вот счастливые! Всем снятся такие героические сны! Я искренне верю, что снятся. А мне — нет… Когда я ложусь спать, мне почти всегда холодно. Ведь окна у нас дома, как и здесь, в школе, застеклены только наполовину, а другая половина забита фанерками. В фанерках щели, дует… Если мама «в вечер», железная маленькая печка с трубой через всю комнату, натопленная с утра, остывает. Холодно. Я долго лежу и трясусь под тонким одеялом, на которое наброшены пальто и почти вся моя школьная одежда. Пытаюсь согреться. Когда согреюсь, сразу засыпаю, без снов.
В эту вторую послевоенную весну война еще так близко. Недавно мама рассказывала, что на том берегу Тосны опять подорвались два мальчика. Они пытались что-то разобрать… Когда одного из них несли на носилках, он все спрашивал: «Я буду жить? Я буду жить?» «А уж что там, — рассказывала мама, — говорили: ни рук, ни ног…»
Мы, первоклашки, готовимся к празднованию Первомая! Уроки закончились — бегательно-прыгательное настроение. Бревенчатые, с торчащей паклей голые стены класса, наверное, давно такого не видели. А что они видели в войну, пока мы, в плену у врага, маленькие, жалкие, голодные, старались изо всех сил выжить за колючей проволокой концлагерей?
Наша красивая молодая учительница Антонина Васильевна, в кремовой кофточке и темном сарафане, с добрым приветливым лицом (такой она навечно вошла в мою память) стоит у стола, окруженная ребятами, и записывает, кто какое стихотворение будет читать. И не забывает делать замечания:
— Геля? Ты куда это? — спрашивает строго у Ангелинки Сахаровой, которая залезла с ногами на парту, «спасаясь» от бегущего за ней маленького подвижного Володи Аркадьева. — Савельев! Не бегай!
Удивительно, что тихий, тощий, вечно голодный Савельев получил такое замечание. А! Это наш улыбчивый шалун Боря Федоров постарался: схватил савельевскую сшитую из серой тряпки сумку (портфель!) и делает вид, что швыряет ее за дверь.
Бегать у нас на переменах нельзя, надо просто ходить. Или водить хоровод. Этим с удовольствием занимаются обычно девочки. Мальчишки тоже иногда участвуют. Но сейчас водить хоровод некогда: скоро придет вторая смена.

…Чаще всего мы водили хоровод «под названием» «Когда-то и где-то жил царь молодой». На роль «царя молодого» выбирался мальчик посимпатичнее. Но таких было немного: от голода все были синелицые, блеклые. Долго я считала, что водить на переменах хороводы мы придумали сами. Но как-то вспомнив, что их было подозрительно много, поняла, что кто-то, может, наша директриса Анна Алексеевна, их нам придумала, подарила. Ведь мы, дети войны, столько горького уже пережившие, так нуждались в каком-то отвлечении от недавней реальности. И хороводов было множество! Уже упомянутый «Царь молодой», «А мы просо сеяли», «Как за речкой, как за перевалом», «Летели две птички», «В нашем садочке», «Со вьюном я хожу» и еще какие-то. Не может быть, чтобы это была случайность. Кто бы ни придумал нам эти хороводы, спасибо ему за светлую нотку в серой мгле нашего детства!
Очередь к столу Антонины Васильевны двигается что-то медленно.
— Фадеева, а ты какое стихотворение будешь читать? — ко мне подскакивает Зойка Калинская. — Начни!
Светлые круглые глаза смеются и впиваются в меня. Зойка часто вертится рядом со мной, хотя мы не подружки. Ей нравится подшучивать надо мной, задирать меня. Нравится, что я расстраиваюсь, а иногда и плачу. Вот и сейчас:
— Читай! Ну, начни!
Мне не хочется читать Зойке свое любимое стихотворение, выученное с маминых слов. Отвожу глаза, смотрю в окно. В окне жмурится от солнышка бледно-зеленая весна. Весна, как в моем стихотворении… И эту неяркую картинку я охватываю бережно всей душой и беру в свой заповедный мир памяти.
— Фадеева! — это уже голос учительницы. — Ты какое стихотворение хочешь читать?
— Я не из учебника…
Она кивает. Я разеваю рот, но в этот миг в наш класс вливается — тоже не грустная! — волна ребятишек другого первого класса, со своей — не такой красивой — учительницей. Толстенькая, низенькая учительница колобком подкатывается к столу и кладет перед Антониной Васильевной список своих выступающих.
В классе становится шумно.
— Читай! Читай! — торопит меня Антонина Васильевна. Времени мало: сейчас подойдет вторая смена.
|
Здравствуй, май веселый! Ждем тебя давно… |
— Хватит, хватит! — говорит учительница. — Все в коридор!
И мне:
— Будешь читать!
В дверь уже заглядывают ребята из второй смены.
А подружки-то у меня были. Настоящие. Оля и Галя. Они жили недалеко от нас, и мы вместе ходили в школу по нашей долгой дороге — три километра. Вместе прыгали через канавы на жухлые кочки, чтобы добраться до школы с сухими ногами, не промочить наши башмачки. Тогда еще не было — а может, только у нас не было? — детских резиновых сапожек. Они нам даже не снились.
Оля была хорошенькая девочка с длинными, но очень тонкими косичками. Однажды она меня пригласила шепотом на необыкновенный пир! Ее мама принесла домой бутылку подсолнечного масла! Мы налили его немножечко на блюдечко, макали в него хлеб и ели, закрывая от наслаждения глаза.
Галя была дочерью погибшего партизана. Всегда серьезная, с короткой стрижкой, с челочкой до бровей. Мы с ней, наскоро сделав письменные уроки, любили рисовать царевен в платьях до полу, колокольчиком, в коронах, с фатой в точечках…
Выходим вместе с Зойкой из школы. Мне обидно, что Антонина Васильевна не дослушала мое стихотворение. (У меня и мысли не было, что она давно знает его!..)
— А дальше как? — спрашивает Зойка.
— Золотые пчелы к нам летят в окно. — начинаю я.
— Ой! Страшно! — вопит Зойка и, растопырив пальцы: — Летят! Ж-ж-ж-ж! — направляет руку мне в лицо.
Я отмахиваюсь от нее и, конечно, не читаю уже про тени на песке:
|
Голубые тени На песок легли. Может быть, сирени Ночью расцвели… |
Особенно мне нравится здесь слово «сирени». Не «сирень», а именно «сирени». Как будто всплывает не то воспоминание, не то какое-то желание и легкая грусть. Я еще не могу определить все это точнее.
ПИРАМИДА
На следующий день после уроков была репетиция в свободном классе. Начали с «пирамиды». Мальчишки покрепче ставились в основание этой «пирамиды». Сцепляли руки. На них вставали девочки. (Теперь полегче.) С боков, вздымая руки и согнув одно колено, еще по человеку. На выступлении все участники «пирамиды» должны были быть в темных трусах и белых маечках. А сейчас все были в обычной одежде. О школьной форме речи тогда не шло по причине всеобщей крайней бедности.
Я не изъявила желания участвовать в «пирамиде»: у меня не было и не предвиделось никакой маечки. У меня была рубашечка на лямках, которую мне сшила мама из чего-то старенького. А штаны у меня были голубые, утепленные. Мама очень радовалась, что ей удалось достать такие, хоть и на два размера больше. Поэтому я была в числе зрителей. После третьей попытки «пирамида» наконец получилась. Было решено перед выступлением ее прорепетировать уже в клубе.
Был еще танец. Его репетировала с нами девочка из старших классов. Запомнилось, как она «под голос» (обещали, что музыка на выступлении будет) учила двигаться пары две-три девчонок. Мальчишки постеснялись участвовать. Прорабатывая движения, девочка звонким голосом пела:
|
Левая, правая!.. Меняемся местами!.. Левая, правая! Меняемся местами!.. |
Наконец, дошла очередь и до чтецов. Остальные были свободны и собирались домой. Кое-кто остался нас послушать. Зойка тоже осталась. В основном читали стихи из учебников, всем уже знакомые. Валя Иванова серьезно и грустно читала про какие-то «твердыни», Людочка Руднева, вскидывая голову, выкрикивала слова стихотворения, которое мне не нравилось. Там были такие странные слова… Ну, нельзя так говорить про Ленина! Вторая строчка кончалась словом «Ильича», а дальше, через строчку, было:
|
Это он по новым городам Проверяет кладку кирпича… |
Как-то не так… И почему он «проверяет»? Поразмыслив тогда, я немного смягчилась, поняв, что есть в стихах законы, правильнее всех — «Ильичей» и «кирпичей».
Предчувствуя, что я со своими «пчелами» и «сиренями» здесь буду смотреться неловко, я все отодвигалась и отодвигалась от стола подальше. Но вот все же и моя очередь. В имеющиеся кое-где в окне стекла настойчиво заглядывает весна. Темно-карие глаза моей любимой учительницы добрые, ласковые. Она кивает мне, выжидательно смотрит.
|
Здравствуй, май веселый! Ждем тебя давно… |
И дернуло же меня в это время посмотреть на Зойку! Она растопырила пальцы, направляя на меня, и ртом изобразила — «ж-ж-ж-ж». Я замолкла.
— Ну, что же ты? Не волнуйся! — подбадривает меня учительница.
Она знает, что я могу, иногда до слез, разволноваться по каким-то своим причинам, и прощает мне это. Я хожу у нее в любимицах.
Больше я решила на Зойку не смотреть и, глядя в окно, прочитала «с выраженьем» все стихотворение до конца: до «ласточки с весною». Когда я перевела глаза на Антонину Васильевну, то удивилась: она была такой грустной. Это мои «сирени» среди «твердынь» и «кирпичей» расстроили ее. Поняла я это много лет спустя.
Однажды я побывала у Антонины Васильевны дома. К майским праздникам готовился и выпуск нашей стенной газеты «За учебу!». Я считалась ее бессменной и бесспорной оформительницей. Что я хорошо рисую, уже все знали: на моего медвежонка на выставке наших рисунков приходили посмотреть даже из других классов. А я удивлялась: ну, что тут особенного?
В газете «За учебу!» нужно было сделать несколько рисунков, а места для работы в переполненной школе не было. Тогда Антонина Васильевна решила отправить своего сына Юру, который учился в нашем классе, и меня с этой стенгазетой к ним домой. Черноглазый маленький Юра с умным взглядом ничем не выделялся в нашем большом коллективе. Я его почти не замечала.
Скинув пальтишки в какой-то жутко тесной прихожей, мы тотчас же поднялись по крутой лестнице в тесную комнату, где перед большим окном на столе лежала наша «За учебу!». Было холодно (ведь еще апрель!), но светло. Юра, к моему удивлению, принес откуда-то горячий чай. У нас дома чай так просто не пили. Я застеснялась и пить не стала. Принялась за работу. Помню, как в хлипкой раме все время тихо дребезжало надтреснутое стекло…
Наверное, в сотый раз повторяя стихотворение, я подхожу к большому двухэтажному дому на главной улице нашего поселка, Советском проспекте, к нашему клубу. Что это? Навстречу мне бредут молчаливые участники нашего выступления.
— Не будем выступать…
— Почему? — спросила я у кого-то.
— Учительница плачет.
— Плачет? А что? Форма не у всех?
— Нет.
Оказывается, вот что случилось. Где-то участники «Пирамиды» раздобыли и белые маечки, и темные трусы. Но когда они, вырядившись в них, худые — кожа да кости, с большими рахитными животами и кривыми ногами, выстроились в эту злосчастную пирамиду, Антонина Васильевна глянула и расплакалась. А потом не могла успокоиться. Наше выступление пришлось отменить. Выступала ли толстенькая учительница со своим классом, я не знаю. Так мы встретили Первомай 1947 года.
Я, ЮНЫЙ ПИОНЕР…
Первые летние каникулы прошли в бегании, купании в речке, почти ежедневных походах на ближнее болотце за сыроежками — подспорье в питании значительное! А на суп — крапива на воде. И какие у нас были замечательные игры! «Лапта простая» — разновидность бейсбола, «Лапта круговая», «Штандор», «Колдуны»… Это помимо пятнашек и пряток! Мы в этих коллективных играх прямо выматывались к вечеру. Забывали обо всем.
Весной мама купила козу. Коза паслась весь день на нашем участке, привязанная веревкой ко вбитому в землю колышку. Я должна была следить, чтобы она не оторвалась и не полезла на грядки. Несколько раз в день я навещала козу, перебивая колышек в более травянистые места нашего участка. Но однажды спохватилась только тогда, когда увидела издали идущую с работы маму. Понеслась к козе. И застала ее, лежащую и хрипящую, у самого колышка, опутанную веревкой «по рукам и ногам».
Все мы немного окрепли и подросли за лето, стали более шумными и веселыми. Второй класс! В подремонтированной школе пахло свежей краской, окна были застеклены почти полностью. И еще нас встретила новая учительница. Об Антонине Васильевне как-то странно никто не вспомнил. Холодной острой льдинкой возник во мне вопрос: куда она пропала? «Льдинка» не давала покоя, подталкивая задать вопрос вслух, но общее холодное молчание не позволяло. И только глубокой осенью…

То был один из серых осенних дней. Не совсем серый, а как будто разбавленный водой. Вода была в небе, в воздухе, хлюпала грязной жижей под ногами. Мы с одноклассницей случайно встретились по дороге в школу на нашем Советском проспекте. Пошли вместе. В школе я с ней мало общалась, — какая-то она была взрослая, что ли, благополучная, чужая. Мы как раз проходили мимо того дома с большим чердачным окном, где раньше жила Антонина Васильевна с Юрой.
— А где Антонина Васильевна? — сама себя мысленно осуждая за смелость, спросила я. «Льдинка» быстро таяла, становясь водой, которой был разбавлен этот день, и вот уже словно пропадала в грязной жиже под моим промокшим ботинком с белым выношенным носком.
— Ее муж оказался врагом народа.
— Как это?.. И они с Юрой куда-то уехали?
Одноклассница посмотрела на меня странно, как на что-то неодушевленное, и ничего не ответила. К счастью, мы нагнали девочку из нашего класса. Пошли втроем. Девчонки сразу же о чем-то бойко заговорили, засмеялись. Я обернулась, чтобы посмотреть на тот дом, на то окно… с черной дырой вместо тихо дребезжащего тогда стекла, куда-то далеко смотрело оно. Мне стало очень холодно, как будто я очутилась снова там, в чердачной комнате, где на столе лежала наша «За учебу!», но не было там уже ни стола, ни нашей газеты… Ни Юры с горячим чаем.
Новая учительница оказалась совсем не похожей на нашу Антонину Васильевну. Раньше, глядя на свою любимую учительницу, мысленно я видела за ней весенний яркий «фон» — цветущий сад, тепло, ощущала заботу, уют… А глядя на новую, фон я видела совсем другой: кухня, кастрюли и… что-то кипит на плите. Она — словно только что отошла от плиты, торопится. А ощущала я, что до нас ей нет никакого дела. Не хотелось ни о чем ее спрашивать.
«Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…» — помню до сего дня все это обещание, с испугу накрепко выученное тогда. Новая учительница почти с первого сентября начала нас готовить к приему в пионеры. Во-первых, она строго сказала нам, что мы должны как можно лучше выучить Торжественное обещание, во-вторых, что в пионеры примут только тех, у кого не будет двоек и кто не получит ни одного замечания. Больше о пионерах нам ничего не было сказано. Все! Остальное время подготовки было занято только тем, что она постоянно повторяла это нам изо дня в день. Я беспокоилась. Не за себя, а за наших мальчишек. Двойки-то можно было хоть как-то исправлять, но замечания! Наши мальчишки ведь не живут без них. Ни одного замечания. Я со страхом смотрела на тех, кто получал замечания: куда же их, не принятых в пионеры, денут? Их ведь много. И еще нам велено было сказать дома, что нужно приобрести пионерский галстук. Мама где-то раздобыла не чисто красную, а скорее оранжевую косыночку. Я немного волновалась о цвете, но мама меня успокоила. А я всегда очень верила своей маме.
Так учительница и не рассказала нам, кто же такие пионеры. А я все ждала такого разговора… Потом сама для себя решила, что пионеры — просто самые лучшие ребята, которые ходят по праздникам строем, носят свое знамя и звонкими голосами выкрикивают какие-то «отчеты». Такую картину я видела в нашем длинном коридоре по праздникам. Наш класс всегда стоял у стены, где окна, сзади всех. И только видна нам была самая макушечка этого знамени, да слышны были «отчеты». «А вот теперь…» — начинала мечтать я.
Но все произошло очень уж просто. Мы стояли тесным строем в нашем длинном коридоре у самой двери нашего класса. Все ребята школы были построены так: у дверей своих классов, чтобы потом маршем пройти в тот конец коридора, где на двери табличка: «Учительская», «Директор» — сразу вместе. Видимо, в пионеры принимали не только нас: откуда-то слышался хор голосов — «Я, юный пионер…» «Ну, нас-то будут принимать по-другому! — думалось мне. — Мы по одному будем говорить». Тут к нашему строю подбежала суетливая девочка — старшая вожатая пионерской дружины школы — и о чем-то зашепталась с нашей учительницей. Я, огорчившись, догадалась, что говорить Обещание придется тоже хором. А я-то приготовилась произносить его, обращаясь к этой деловитой девочке. И она заметит, как я его хорошо знаю, — без единой запинки! Как «торжественно обещаю»!.. Но она ушла…
Учительница проводила ее немного растерянным взглядом и скомандовала нам начинать. Я, чуть не плача, даже нарочно не стараясь — со всеми! за всеми! — негромко, без выражения, бормотала такие береженные слова. После этого учительница стала повязывать нам галстуки, которые мы до сей поры держали в руках у груди. Подошла моя очередь. Учительница взяла мою оранжевую косынку, удивленно помедлила:
— Это твой галстук?
— Да.
— Другого нет?
— Нет…
И, недовольная, она повязала мне на шею то, что было.
ВЕЧЕРОМ БУДЕТ ТЕМНО
Меня избрали председателем совета нашего пионерского отряда. В отряде было четыре звена, в каждом — звеньевой. Звеньевые и составляли совет отряда. Сразу после собрания вожатая дружины опять куда-то убежала, и мне никто не сказал, что же я должна делать на своем прекрасном посту, а я бы делала, что сказали, старательно и с удовольствием!.. Я ждала сначала с недоумением, потом уже со страхом: что мне надо делать? Никто ничего не говорил.

И вот перевыборное пионерское собрание. Наша учительница, которая приходила в школу не часто — ее подменяли случайные учителя, — в тот день отсутствовала. Но нам строго сказали остаться на собрание после уроков. У меня, охваченной непривычными чувствами от сознания невыполненной работы, было полуобморочное состояние. Все уселись поближе к столу по трое и даже по четверо за парту. Бессознательно спасаясь от чего-то мне чуждого, я забралась в середину. Ждали кого-то. Наверное, ту самую торопливую вожатую.
Вдруг… Да, это было то самое судьбоносное «вдруг», как все его собратья, неожиданно и памятно появляющиеся в нашей жизни. К парте, где я сидела и дрожала, подошла Зойка. Стала настойчиво просить меня выйти из-за парты. Очень настойчиво. Я нехотя стала вылезать под недовольное ворчание сидящих сбоку. Зойка отвела меня в сторону и произнесла дикие в моем понимании слова:
— Давай, убежим с собрания!
— Ты что? — своим ушам не поверила я, никогда ниоткуда не убегавшая.
Она стала настойчиво, почти силой, тащить меня к двери.
— А портфели? — как за спасительную соломинку зацепилась я.
— А мы за ними придем после!
Мне стало почти невыносимо плохо. Но Зойка настаивала.
И вот мы на улице. Теплый солнечный вечер 1948 года… Около школы никого. Зойка ведет меня к огромным качелям, на которых по переменам качается вся школа и на которых я никогда и не мечтаю покачаться. А так хочется!.. Зойка помогает мне забраться на высокие качели и начинает меня раскачивать. Взлет — и я вижу мостки: три досочки во всю ширину, и даже поворот мостков. Спуск — и мостки становятся узкой светлой черточкой. А поворот не виден. Тот поворот, что так запомнился мне тогда, в первом классе. Тогда я несла в сетке-авоське половину буханки хлеба, что выдавали нам, первоклассникам, несколько месяцев. Когда я наступила на угол мостков, фонтан грязи окатил весь мой хлеб и даже попал за голенища тех самых сапожков, что дедушка сшил мне к школе. Взлет — мостки, спуск — светлая черточка. Но удовольствия почти никакого: от чувства неправильности поступка мутит все внутри. Но все же остается крошечное счастье от легкости полета качелей, от красоты длинных лучей заходящего солнца. Словно солнце большими сказочными руками обнимает меня.
— Давай, выйдем из пионеров! — вдруг говорит мне Зойка.
Еще не легче! Уж это-то вообще не укладывается в моей голове.
— А зачем? — робко лепечу я.
Зойка привела массу доводов, которые я сейчас не помню, но последний был «человеческий»:
— Не надо будет оставаться ни на какие собрания! Нам и так далеко ходить в школу. Потом вечером будет темно! — попугала она меня напоследок.
Я молчала. Зойка стала меня убеждать, что если мы не были на собрании, то мы теперь и так уже не пионеры. И уговаривала меня назавтра снять галстук…
Из школы стали выбегать ребята нашего класса. Мы с Зойкой пошли в школу, беспрепятственно взяли наши портфели. Нами никто не интересовался. Про нас, видимо, просто сказали, что мы «отсутствуем». А торопливая вожатая убежала, наверное, одной из первых. И, может, все обошлось бы, если бы не приказание Зойки прийти в школу без галстука.

На следующий день я пришла в школу без своей рыжей косынки. Зойки в тот день в школе почему-то не было. Опять бы никто ничего не заметил — многие уже запросто ходили в школу без галстука, но я сама кому-то «торжественно» проговорилась, что я теперь не пионерка. Через урок ко мне подошла наша растрепанная учительница, которая на сей раз в школе была, и повела меня в кабинет к директору. Привела и тут же ушла. Видимо, о моем приходе (или приводе?) директор уже знала.
В коридоре тетя Даша позвонила в колокольчик. Начались уроки. Мы с Анной Алексеевной, нашей директрисой, остались одни. Пожилая, грузноватая, с прической, не похожей ни на чью: волнистые седые волосы на прямой пробор спереди, сзади уложены в небольшой узелок. Лицо доброе, строгое и приветливое одновременно. Все в красивых мелких морщинках. Глаза светлые. Просто светлые. К ним она часто подносила сложенные очки, как пенсне. Когда она медленно шла по нашему длинному коридору, возникала и заполняла весь этот коридор уверенность, что школа у нас НАСТОЯЩАЯ, что все обязательно будет ПРАВИЛЬНО и ХОРОШО. Я ею всегда любовалась, я ее любила. И радовалась, что она у нас есть!
И вот я стою перед ней. Мои отросшие за лето кудри покрывают плечи. Особенно, когда я опускаю голову. А я почему-то ее опускаю. Начинается наш с Анной Алексеевной памятный разговор.
— Почему ты сняла галстук?
— А я вышла из пионеров.
— Почему? Тебе что-нибудь сказала мама?
— Нет… Мама не знает, я ей не говорила.
— А кто тебе что-нибудь говорил?
Я ни секунды не сомневалась, что Зойку выдавать нельзя, хотя мне и не снились сны о пытках, как всем.
— Нет, никто.
Молчание. Тут я решилась взглянуть на Анну Алексеевну. Она смотрела на меня как-то незнакомо.
— Тогда почему?
Я пожала плечами и начала говорить о том, что в школу ходить далеко, а потом вечером будет темно… В общем, повторила тот последний Зойкин довод, который меня сразил вчера. Говоря это, я уже чувствовала какую-то нелепость его, и заплакала. В кабинет вошла незнакомая учительница. Это меня испугало, и я заплакала еще горше.
— Что это случилось? — спросила бодрым голосом темноглазая учительница, которая в этот момент показалась мне черной. Вся черная.
Я ждала, что сейчас Анна Алексеевна расскажет ей о галстуке. Но она вдруг спросила:
— Так ты говоришь, что волосы у тебя сами завиваются?
— Да. — плача и ничего не понимая, отвечала я.
— Наверное, мама накручивает тебе их на бумажки? — громко и весело спросила «черная».
— Какие бумажки? — повернула я к ней заплаканное лицо.
— Завтра же заплети косички! — непонятно просто сказала вдруг Анна Алексеевна.
— И чтобы без всяких хвостиков! — бодро добавила «черная». Взяла со стола журнал и вышла. Ее твердые шаги скоро смолкли в конце коридора.
Анна Алексеевна стала что-то собирать со стола, делая вид, что ей очень некогда.
— Поговори дома с мамой, — тихо сказала она. — А теперь иди в класс.
Наша учительница, вовремя доложившая о моем странном поступке, конечно, желала знать результат моего пребывания в кабинете директора. Но, ясно, не от меня! На перемене она туда сходила. Не знаю, что сказала ей Анна Алексеевна, но вернулась она немного разочарованная:
— Когда захочешь, надень галстук, — буднично сказала мне.
Вечером того же дня я «поговорила» с мамой:
— Мам, мне сказали, что надо заплетать косички…
Слово «сказали» для моей мамы значило все! Оно было равносильно военному приказу. То и дело я слышала, как они с тетей Нюрой, разговаривая, употребляют это слово: «Сказали, что за опоздание на работу будут сажать в тюрьму», «Сказали, что тех, кто был в плену, опять будут проверять», «Сказали, что, может быть, опять введут карточки…» И тому подобное — безоговорочное, необсуждаемое.Мое «сказали» значило для нее то же самое.
Мама любила мои кудрявые густые волосы, у самой же у нее на голове торчали светлые кудряшки модной тогда завивки «шестимесячная».
— Сказали, значит надо! — Мигом «сломалась» мама. — Только как же?.. Ведь ты не умеешь заплетать! А я потом буду «с ночи», только в десять дома… Давай, поищем ленточку, у меня, вроде, была в коробочке для ниток.
Была найдена неопределенного цвета лента, служившая закладкой в какой-то книге, принесенной мамой для чтения. Мама много читала в те дни. Ленточка была короткой. И одна только. Поэтому ее пришлось аккуратно разрезать вдоль, чтобы получилось две.
Заговорить о выходе из пионеров я так и не смогла. Лишь ни с того ни с сего спросила:
— Мам, а галстук всегда надо носить?
Моя мама воспитывала меня своеобразно: глазами. Не надо было ни долгих разговоров, ни, тем более, шлепков, — посмотрела мама, и мне все ясно!.. Мама посмотрела. Я поняла: галстук надо носить всегда!
Целый вечер мы с мамой заплетали мои косички: берем одну прядочку, вторую держим… И так далее, раз десять! До слез.
На следующий день я старательно повязала на шею оранжевую косынку. Зойка появилась в школе дня через три. С галстуком. Подошла ко мне, как ни в чем не бывало. О выходе из пионеров и не заикнулась.
А косички я каждый день теперь со слезами заплетала, как могла, выполняя все, как учила мама: «берем одну прядочку, вторую держим…», и так далее.

РЕЧКА ТОСНА
Когда говорят «речка», я представляю что угодно: синенькую линию на карте, какой-то ручеек с камешками, но не нашу речку. Ведь наша речка — РЕЧКА ТОСНА — это совсем другое! Это особая чудесная, огромная СТРАНА! Причем, этот берег, где наши дома, улицы — одно. А неизведанное, таинственное — мелкий «лесик», болотце с клюквой, гоноболью, сыроежками, железнодорожной веткой, «линией», как мы говорили, — ТОТ берег. И все, происходящее на ТОМ берегу, оставляет в жизни, в душе, заметное, памятное, какое-то почти осязаемое… Навсегда.
Мы целыми днями возимся на ее берегу, срывая длинные и круглые синеватые тростники со щепоточками коричневых соцветий около самого верха. Плетем из них по принципу венков нечто огромное, «разлапистое», потом собираем весь этот «венок» в тугой пучок вверху, завязываем травой. Получаются очень высокие своеобразные шапки, напоминающие что-то «индийское».
Через речку три моста: Красный, Графский и «над водопадом». Обо всех трех можно долго и интересно говорить, тем более что Графский мог бы называться и мостом Алексея Толстого, — да, да! — того самого, который «средь шумного бала, случайно.»
…На берег реки однажды пришел мужчина в выцветшей гимнастерке навыпуск. С патефоном. Он неторопливо снял гимнастерку и так, в майке, уселся возле своего патефона, сложив руки на согнутых коленях. И долго сидел. Потом раскрыл патефонный ящик, поставил пластинку, завел патефон.
|
Брось сердиться, Маша! Ласково взгляни: Жизнь прекрасна наша! Солнечные дни… |
Запела пластинка. Мужчина лег на спину, руки под голову, стал смотреть в небо. Механическое пение патефона с его шипением и закруглениями звуков пыталось слиться с живой музыкой речки — оптимистичным говорком воды, льющейся по светлым плитам дна, с тихим перешептыванием тугих голубоватых тростников. Не получалось. Не получалось… Не получалось… Нет больше его друзей, погибших на войне, нет той Маши… «Солнечные дни…»
Почему в самые важные моменты жизни люди припадают к земле?.. Почти так же вот, перед уходом на фронт, — рассказывала мама, — завел патефон и, поставив пластинку, упал ничком на землю ее младший брат, мой дядя, Анатолий. Моряк. И пела ему пластинка:
| Раскинулось море широко, И волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, Подальше от нашей земли… |
Может, в эти минуты предчувствовал он, как будет плыть многие километры к земле с пылающего тонущего корабля. Доплывет. Припадет к ней. Но поживет на этой земле так недолго.
«Этот» берег весь изрыт воронками от снарядов. Траншеями, окопами. Летом 1945 года они еще не заросли, и глинистые стены их «плакали» после дождей светлыми слезами, кое-где покрываясь веселыми маленькими травинками. На высоком взгорке около реки стоял дом. Как все уцелевшие дома, без дверей, ез оконных рам, черный. Мы с братишкой забрели в него из любопытства. Пола в доме не было видно: сантиметров на десять над этим полом рыжели, хрустя, гильзы от патронов. С такими вот картинками шло наше «золотое детство».
Теперь в сосняке, где до войны, как говорила мама, гуляла по вечерам молодежь, где висели большие качели, устроено братское кладбище. Со всех концов России приезжают сюда. Приезжала из Грузии чья-то старенькая мама. Лежат здесь те, кто отстоял для нас нашу речку Тосну, пытаясь вернуть «солнечные дни», качели…

| Людмила Фадеева |
Художник Шамиль Ворошилов | Страничка автора | Страничка художника |