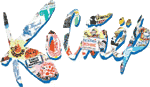Март 2017 года

…

Иду на специальность. Ослепительное солнце светит через закрытые веки, через кожу, через одежду, даже ногами чувствуется через кеды — идешь по солнечному тротуару. Я иду медленнее, чем обычно. Солнце говорит: «Плюнь, Про, не ходи! Какие этюды, какой Бах, смотри, как тепло!» Кончики пальцев чувствуют солнечный свет. Я дергаю себя за ухо, за другое, за нос — очнись, Прошка, ты не на пляже! Вспомни, как ты хотел. Как ты поступал в эту школу, как тебя не брали, и ты кулаком разбил балконную дверь, когда не прошел, чего ты тогда хотел, а? Мечтал! Чтобы вот так, солнечным днем идти на специальность. Иди и радуйся! Лентяй, пингвин. Иди, иди-иди!
Тяжелая дверь школы, у меня не хватает сил, чтобы дернуть ее на себя, и мелькает мысль: вдруг закрыто? А? Ну вдру-уг!
Открылась. Ну ладно. Иди, не убьют же тебя там! Зато потом будешь с чувством выполненного долга пить чай в буфете, и, может быть, придет Густав. Даже наверняка придет, почему бы ему не прийти?
На уроке я играю Баха. От солнца мой Бах растекается в лужу, расплывается, разбитое яйцо на полу, пальцы путаются. А я ведь выстроил его, и уже было, было здание, такое стройное, но хрупкое... Растеклось, рассыпалось. Эх, Прохор. Бездарность ты, нечего и воображать. В голове тоже лужа вместо мозга, и я слышу издалека, будто сквозь вату:

— Ноты выучить может даже обезьяна! Где музыка? Где, я спрашиваю?! Бросил фразу! Локоть! Куда ты тянешь кота за хвост? Ну-у-у, теперь полетел, где ритм?!
Ключ стучит по столу. Раз-два, раз-два...
Самое обидное, что пришла уже следующая ученица, Аня Лернер, эх, и перед ней я так позорюсь!
Но все заканчивается, и этот кошмар небесконечен. Марго выгоняет меня и сама садится за рояль. Показывает, как надо. Так, а можно и так, совсем по-другому, главное, чтобы мысль была!
Я стою в дверях и стекаю по косяку. Нет, я не зря пришел. Откуда она так может, Марго?! Откуда!!
Она встает из-за рояля, идет к окну. Злится, значит. Когда так злится, даже смотреть на тебя не хочет, на это ничтожество.
— Все нервы у меня вытягиваешь, Прохор! Ноты ладно, ноты ты выучишь, с твоей головой вообще стыдно в таком виде приходить. Но энергия, Прохор! Чем ты играешь? У тебя что, внутри вообще ничего нет? Мужчина ты или дохлая амеба? Никакого характера... Не солист, не ведешь за собой! У девчонок больше силы, чем у тебя!.. Вот послушай сейчас Аню, послушай!
...У Ани Лернер узкие плечи, тонкие пальцы, — спичка, а не человек. Только волосы густые черные, сильные-сильные, и глаза яркие. Этими глазами она смотрит на меня и шепчет губами: уйди, Про! Не слушай, уйди куда хочешь!!!

Ага, значит, и Аня сегодня не в форме. В моей предыдущей школе такого не было, а тут есть: на уроке часто сидит кто-то из одноклассников, и от этого так страшно играть, так страшно!!!
Я немного переживаю за Аню. Ведь это я разозлил Марго. И маленькая хрупкая Аня... Ой, лучше не думать.
Я сижу на подоконнике, пью чай из пластикового стаканчика. Злюсь. Чай невкусный, обжигает горло. Злюсь на Марго, и еще больше на свои руки, свою голову бестолковую, да и на Аню Лернер заодно. Ладно-ладно. Сейчас пройдет, схлынет, и я смогу на холодную голову проанализировать...
Что? Какой анализ, Про! Ты что, смотри, какое солнце!
— Салют, Прохор! — меня хлопают по плечу. — На спец ходил?
— Угу, на спец.
— А, то-то, я смотрю, у тебя вид такой отмороженный... Как Марго?
— Ослепительна, — говорю, — сияет, как роса на траве. А я рядом с нею тускл и прогоркл.
— Про?.. Прогоркл? — Мы начинаем громко смеяться. Я изображаю, как Марго плюется мной, как я лежу — испорченное блюдо второго сорта. Можете взять — уценка. Соныч знает, он тоже учился у Марго, она его довела до нервного срыва. Сбежал от нее, перевелся к Зондбергу. Конечно, хрен редьки не слаще, но ему там легче, нашли контакт.
...И тут появляется Густав. Я всегда немного смущаюсь перед ним, понимаю: наша школа для таких, как он. А мы с Сонычем тут недоразумение.

Я смущаюсь, а Соныч повторяет ему мою шутку про Марго, как она ослепительна, а я тускл и прогоркл. Густав тоже смеется. Я рад, что рассмешил его, хотя с Густавом вот так валять дурака, как с Сонычем, не могу.
***
Я поступил в нашу школу, специальную музыкальную, со второго раза и, в общем, случайно; не должен был, но прошел. Взяли авансом. После меня на экзамене играла Аня Лернер, я слушал из-за двери и понимал, что мне тут нечего делать. Я просто умею ставить пальцы на клавиши. И все. А делать музыку я не умею. Она звучит у меня внутри, но мои корявые руки не способны воспроизвести ее. А Аня может.
И чудом я попал в класс к Марго. Мне сказали — пишите заявление к педагогу, а я никого и не знал, кроме нее.
У нее был концерт в кирхе, там бывают концерты. И мы с мамой пошли. Марго играла Баха. Я тогда оцепенел. Впервые замер от музыки, думал только: пускай не кончается, не кончается! И потом эта музыка звучала в моей голове, долго-долго...
Ну и я написал заявление к ней, безо всяких надежд, наудачу.
И был зачислен.
Чудо.
Я до сих пор не могу выйти из этого оцепенения, когда Марго говорит мне: локоть веди! Играй, Прохор, что ты как амеба!!! Замороженный, ледяной мальчик! Скучный, не сольный... тапер, тебе бы в кинотеатре играть.
Они тут все другие. Они с детства. У них руки способны на все, им остается только музыку делать. А я! Со своей деревенской школой что я могу?!
Ну. И я стал делать то, что действительно могу. Смешить. Смешить весь класс.
— Новенький? Как тебя зовут? — просто, по-детски спросила одна девочка. Я потом узнал, что она Оля, флейтистка.
— Про, — сказал я.
— Как?..
— Про! Как противоракетная оборона.
— Ух ты, — сказала Оля, и другие тоже сказали «ух ты», и Аня Лернер, и, может быть, даже Густав.
Густав мне не понравился. Воображала, подумал я сразу. Вот Соныч — нормальный парень, сразу видно. Свой. А Густав какой-то выпендрежный. Тонкий шарф, пиджак... Больно следит за своей внешностью, что-то в этом есть неправильное для парня. И фамилия выпендрежная, и имя — какой-то пазл, искусственное что-то, выдуманное: Густав Август. Анаграмма, имя из тех же букв, что и фамилия. Магический квадрат. Он, кажется, из Риги. В нем есть какая-то заграничность. Смотрит на нас свысока; ну и жил бы в своей Риге!
Он держался отдельно, в буфете садился один, если столы заняты — на подоконник. Не участвовал в наших общих штуках, когда мы флешмоб против англичанки придумывали… Я даже жалел его, думал, вот ненормальный. Какой-то аутист, людей боится.
Оказалось, ничего он не боится. Просто ему никто не нужен. Он просто другой. Не мы.
— Пойдем послушаем, — сказал мне Соныч. Ну послушаем так послушаем, в зал можно приходить и слушать репетиции, никто не может запретить.

— Пойдем, а кто сегодня будет? — спросил я.
— Так Густав же, — объяснил Соныч. Удивился моему незнанию. Ведь список репетиций в зале вывешен на двери. И все знают, когда Густав Август.
...В зале было человек тридцать. Нормально для школьника вообще: просто урок, не концерт — откуда они понабежали все?
— Это же Густав, — сказал мне Соныч.
Ну и дураки, подумал я. Значит, кто-то раскрутил этого Густава, значит, тут принято, что он талант. А на самом деле всего лишь нужно научиться нажимать правильные клавиши в правильное время. Вот и весь ваш пианизм, все ваше волшебство...
Да и сначала он играл — ничего особенного. Ну, хороший пианист. И все.
А потом начался Скрябин. И у меня стул поехал из-под ног.
Не знаю, чем это объяснить. Может, все очень просто. Просто Густав гений?
Меня будто крепко взяли и повели за собой. И я пошел. Как дурак. Так бывает во сне, когда не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, не чувствуешь туловища, весь становишься одни уши, и в груди стучит сердце. Сердце с ушами. Такой уродец. И думаешь: только бы не кончилось, не кончилось...
***
Ночью я слушал этого Скрябина. В записи разных пианистов. Может, дело не в Густаве? Может, просто такая музыка? Казалось, меня в какую-то воронку засасывает. Никогда такого не было раньше.
Кот раньше не любил пылесос, а потом ничего, втянулся.
И я втянулся. Внутрь этой музыки.
Потом Густав играл на классном концерте, и я ждал, будет такое же волшебство или нет? Когда ждешь, обычно не бывает. Ничего особенного. А тут было.
С тех пор, когда я видел его, то хотел побыстрее уйти. Мне было не по себе, что человек, который так умеет, волшебник, — просто сидит рядом, ест, говорит изредка с другими... Но когда я шел в школу, часто думал: вдруг будет Густав? Вдруг?..
Гусь лапчатый. Больно надо. Воображала.
***
Один раз Густав спросил меня, что было на математике.
— Разложение многочленов на множители, — говорю.
— Какое еще разложение? — не понял он.
— Моральное, — объяснил я.
Он моргнул, а потом расхохотался. Я страшно гордился своей шуткой, дня три. Да вру, не три — мне до сих пор кажется, что это дико смешно.
***
На камерный меня поставили с Олей. Камерный ансамбль, играть дуэтом или трио, например. Мне было все равно с кем, я же никого не знаю. И Олю я не запомнил. У нее такое лицо обыкновенное. Это она меня тогда первая спросила: «Как тебя зовут?»

Я потом несколько раз на других девчонок думал, что это и есть Оля, даже здоровался.
А когда она подошла и сказала:
— Мы с тобой вроде по камерному, да?
Я ответил:
— Нет, у меня Оля Коровина.
— Так это я же!
Вот я дурак, надо же так ошибиться. Ну правда, таких лиц обыкновенных полшколы. Оля и Оля.
Но она не обиделась. Говорит, когда мою фамилию увидела, сразу обрадовалась.
— Ну да, когда люди мою фамилию видят, они всегда радуются.
Оля смеется. Ничего, кстати, Оля. Когда смеется — у нее ямочка, но не на щеке, а выше, на скуле. Слева. А справа нет. Хорошо смеется, легко. Обычно девчонки хихикают глупо.
Прохор Небейголова и Ольга Коровина. Отлично.
Чувствую, хорошенький выйдет у нас с ней этот камерный ансамбль.
***
И правда вышел. И неплохой. Мой любимый теперь предмет. На камерный я лечу с радостью, и весь день сияет с самого утра, если вечером камерный. Не из-за Оли, нет.
Меня полюбила учительница, Ольга Степановна. Она много болеет, и мы ходим заниматься к ней домой. Раз я слышал, как по телефону ее назвали Лёлечкой, и про себя теперь зову ее так, хотя ей за пятьдесят, наверное. На втором уроке она сказала, что у меня редкие уши. Я сначала не понял, нормальные уши у меня, не торчат; но она про другое говорила. Что пианисту обычно трудно сдержать в себе солиста, с нами бывает трудно играть. А я умею слушать другого. Я тонкий. Я... Такое слово — «деликатный». Я такого даже не знал.
«Прохор, Ваша природная деликатность иногда даже несколько Вам мешает». Да, Лелечка с нами на «Вы». Маленькая, хрупкая, со спины — девочка с почему-то седыми волосами.
И вот она первая сказала мне, что я — могу. Что у меня есть то, чего у других нет. Что Оле со мной повезло.

И из Оли моей она тащит, тащит... Оля средняя флейтистка, я сразу понял — несмелая, просто такая лирическая девочка, в маленький оркестр куда-нибудь сядет и будет тихонько играть. На вторую флейту. И мне жаль Олю. Я чувствую, она как я: внутри у нее все есть. Океан внутри. Не позволяют то ли руки, то ли дыхания не хватает… флейта трудный инструмент, очень много воздуха впустую уходит, то есть не впустую, а мимо флейты. Так нужно дуть, чтобы воздух рассекался и внутрь инструмента попадало совсем немного. Так и есть: дуешь-дуешь в эту флейту, а на выходе пятая часть того, что вложил. Оля привыкла, чтобы ей на экзамене говорили: какая хорошая девочка, умная. Молодец. «Четыре».
Мне с ней правда было очень хорошо играть, уютно. И Лёлечка со временем нас стала из этого уюта вытаскивать.
«Если вы собираетесь так в переходе играть, то пожалуйста. Парковая игра. Но если в зале... Хорошо, мои дорогие, сидеть дома в теплом одеяле. Давайте делайте что-нибудь! Вам же есть что сказать! Так говорите! Чтобы слушателя пробить, в самую середину... Понимаете? Слушатель — он любит в скорлупе своей сидеть и чтобы ему красивое кино показывали... Но если вы его пробьете, ребятки, он ваш навсегда... Вы Моцарта играете, зайцы мои, это же концентрат всего, что в мире есть! В мире не только теплые тапки!!! Что вы играете, а?»
То есть она говорила мне то же, что и Марго. Но как-то иначе. Как-то не «эх ты, амеба», а «давай-давай, сможешь!».
***
Потом мы шли с Олей к метро, и она рассказывала, что со мной понятно: я из маленькой музыкальной школы в райцентре, я талантливый, добился, поступил, с нуля... А у нее все было: мама скрипачка, Олю учила с трех лет, на скрипке не вышло, потом врачи велели слабые легкие развивать, — вот и флейта, эта спецмузшкола с первого класса, лучший учитель, и что... И ничего. Плывет по течению. И понимает, понимает, что никакого большого музыканта из нее не выйдет.
— Не говори ерунды. Ты хороший музыкант, ну, не орешь в лоб, но с тобой играть мне нравится. Получается и тонко, и содержательно.
Я хвалю ее и даже, может, немного привираю. Ну чего она так к себе? Что за комплекс серой мыши? Нормально играет, не хуже других. И она отвечает:
— Знаешь, у флейтистов принято флейтой болтать во все стороны. Когда стоишь просто, тебе говорят: невыразительная игра. А я не могу, это мне искусственно, не нужно. Зачем это, будто флейтой мух гоняешь, что, от этого звук лучше?
Смешно. Мух гоняешь... Нет, эта Оля молодец. Хотя она правда зажато стоит, как в первом классе. Мне даже любопытно вытащить ее из кокона, освободить, чтобы ей легко было играть, чтобы самой нравилось.
Мы занимаемся вечером в школе, допоздна.
— Давай, — говорю я, — что ты... Как дохлая амеба, играй давай, у тебя же есть внутри!
Оля не обижается. И не хочет уходить. И мне вдруг становится страшно. На улице темнеет; мне сейчас еще ее провожать придется... Нет, мы так не договаривались! И сейчас тоже — вдвоем в классе... Может, она думает про меня что лишнее?
Я хватаюсь за телефон, стараюсь выдумать себе срочное дело.
— Слушай... Я к Сонычу обещал зайти, он здесь где-то... Пойдешь со мной?
— К Сонычу? — Оля почему-то краснеет. — Нет, я еще позанимаюсь лучше.
— Тебя потом проводить, может? Поздно уже?
— Нет, — твердо мотает она головой, — я сама.
Ну сама так сама, чего я буду навязываться. Я иду вниз, смотрю журнал на вахте, где мы берем ключи и расписываемся. Сон-Левитин, ага, восемнадцатый класс, соседний с моим.
В его классе темно и холодно. Я вхожу и не сразу вижу Соныча на фоне окна.
— Ты чего, Дим? Можно свет включить?
— А, это ты... Не, у меня глаза болят, не надо.
Я иду к нему и чуть не наступаю на ноты, валяются на полу. Соныч раскидал. Вот псих! Глаза привыкают к темноте, и я вижу: Соныч без рубашки. По пояс голый, смотрит в открытое окно. Холодно ведь!
— Ты чего голый, Соныч?

— Ничего... Так. Жаркая битва с Шопеном.
— Вижу, — я смотрю на раскиданные ноты, — передрались?
— Ну, так… — встряхивает головой он.
Я впервые вижу, какие у него мышцы. Это тебе не я, Прохор, дохлый пианист-очкарик, у Соныча все на месте. Дима Сон-Левитин, мой друг, корейско-еврейского происхождения, у него странный, страшно красивый разрез глаз, черные азиатские волосы и, как оказалось, широкие плечи и крепкий пресс.
— Ты качаешься? — спрашиваю его. Прямо модель из журнала, никогда бы не подумал!
— Так, — отвечает опять Соныч.
Он молчит, потом закрывает окно. И говорит:
— Слушай, Про... Вот Оля. Оля. У вас... Да?
— Чего у нас? У нас камерный ансамбль, а ты что думал?..
— Не, ты мне скажи... Скажи как есть. Роман? Если ты... По-настоящему, тогда ладно. Если реально роман. А если так...
Он вдруг хватает меня за рубашку и смотрит своими странными глазами, близко-близко:
— Если ты ее обидишь... Смотри, Про. Смотри!
...Только тут до меня доходит. Вот я дурак! Но я и подумать не мог, ладно бы Аня Лернер, она хотя бы красивая, а тут-то что, обычная Оля!
— С пятого класса, — говорит Соныч. — Таких сейчас не бывает. Ты посмотри, она будто из позапрошлого века! Так сейчас и смотреть никто не умеет... Такие глаза...
Соныч надевает футболку и становится похож на самого себя, мне уже не так страшно.
— Дим. Дим, я же не знал. У нас... У нас ничего нет, совсем. Близко даже. Ты... Ты чего сам не подойдешь к ней?
— Боюсь, — просто отвечает Соныч. Обычный Димка Сон-Левитин, Соныч, мой друг.
— Хочешь, спрошу про тебя?...
— В табло получишь, не смей!
***
Мы играем экзамен. Камерный ансамбль.
Мы с Олей Коровиной смертники. Во-первых, мы играем Моцарта. Моцарт — обязательное испытание, мучение, за него никогда не ставят пятерок, это непринято. Потому что в Моцарте мало нот, и просто сыграть их все не так сложно. Нужно что-то такое особенное, чему нет названия, вернее, есть: «умение играть Моцарта». Считается, что школьники этим умением не могут обладать по причине отсутствия опыта.

А я влюбился в Моцарта, по уши; я забросил специальность и играю только его, разное. И все это из-за Оли. Она мне показала, как он дышит, как звучит — будто чистую воду пьешь; и из первой ноты так естественно вытекает вся соната, будто другой музыки там и быть не могло. Как скульптор достает уже готовую скульптуру из неотесанного камня, шаг за шагом. Так и Моцарт — из мира звуков высекал одно единственно возможное произведение, удивительная штука, чудо. Музыка натянута от начала до конца, как леска, нигде не провисает, нигде не рвется...
Моцарт прожил всего тридцать пять. Когда он успел столько?
Да, мы играем Моцарта, поэтому считаемся смертниками. Вторая причина — это порядок. Не повезло. Перед нами играют виолончельную сонату Бетховена Рома Семенов и Густав Август.
Ромка тоже знаменитость на виолончельной кафедре. Жаль, я не могу их послушать — перед своим выступлением не слушают никого, чтобы не сбить настрой.
Не помню, как мы играли. Страшно волновался за Олю, не за себя. Я-то сыграю. Но она начала так здорово, таким звуком необыкновенным... И чудо! Повела меня за собой, будто она сильнее. Я просто был рядом каждую секунду, и все. Подумал только, что всегда хочу с ней играть. Она меня чувствует, и я ее.
Соныч треснул по плечу, сказал: «Ну ты крут, Противоракетный!» К Оле не подошел. А она вдруг расплакалась. Я мигал, мигал Сонычу — подойди, дурак!!! Подойди сейчас, утешь девушку! Нет, этот ненормальный стоит столбом!
Пришлось мне.
— Ты чего? Чего ты, Оля, хорошо же играла!
— Правда... Правда хорошо?..
Она вдруг села на пол.
— Ты чего?!

— Ноги не держат, — она засмеялась, — вообще сил нет...
Тут уж Дима Сон-Левитин догадался дать ей руку. Я тихонько утопал на лестницу.
Странно остаться одному. Одному с Моцартом в голове. Я облокотился на перила и смотрю вниз, как лестница заворачивается улиткой, красиво. В бесконечность.
— Поздравляю! — услышал знакомый царственный голос и вздрогнул. Марго! Слышала?!!
— Да, слышала. В ансамбле ты удивительно раскрываешься, Прохор. Буду с тебя теперь требовать большего. Можешь, умеешь. Держись, мало не покажется! — и она рассмеялась своим королевским смехом, и я впервые тоже смог улыбнуться при ней.
Объявляли результаты. У Сон-Левитина трояк. Страшно даже. Оля одной рукой в меня вцепилась, другой в Соныча. Ждем своих фамилий.
— Семенов, Август — отлично с минусом. Коровина, Небейголова — отлично с минусом...
— Чего это Густаву минус? — спрашиваю я. Про нас я пока не понял. Это невозможно, чтобы так.
Соныч сияет, забыл про свой трояк. А у Оли блестят глаза, и она трескает меня по лбу:
— Все из-за тебя! Из-за тебя, Небейголова ушастая!.. Первая пятерка за всю жизнь, первая!..
И у меня первая. И за что, за Моцарта!.. Нас все поздравляют, а наша Лёлечка полезла обниматься и даже расцеловала меня в обе щеки.
Внезапно у меня схватывает живот. Сильно. Бегу в туалет и долго не могу выйти. Даже немного реву, пока никто не видит. Я смог, смог! Мы с Олькой сыграли по-настоящему, по-настоящему!..
Вдруг я слышу голос Густава. Он говорит с кем-то по телефону, лучше туалета места не нашлось! Встал к окну и говорит. Он же не знает, что я здесь, и мне теперь не выйти.
«Да, с минусом... Виноват, конечно, сам, я знаю. Понесло меня, понимаешь? И Ромку завалил... С виолончелью так нельзя, я понял уже. Понесло само, я не специально, разошлись даже... Не, чуть-чуть, почти незаметно, но неприятно... Главное, Ромке пришлось давить. Я, кретин, не дал ему прозвучать. Да я знаю, что со мной трудно играть, мне Ромка уже высказал... Одеяло на себя тянешь, говорит. Поссорились даже. Хотя, знаешь, у нас в классе только один парень нормально ансамбль сыграл. Ага. Остальные так... Главное, девочка там такая средняя, флейтистка. Вообще не фонтан, нечего слушать...»
Так бы и дал ему сейчас в лоб! За Олю! Больно воображает... Прямо вот сейчас выйду и скажу!
«…Да, я сначала не слушал толком, переживал за нашего Бетховена, лажанулись мы, неприятно. Ну и потом после Ромки — такая совсем бледная девочка... Но, знаешь, я понял. Как важно уметь вторым быть. Впервые услышал. А то у нас все на себя играют. А тут — вторым. Бережно-бережно... Девочка прямо расцвела, знаешь. Я бы даже его попросил со мной концерт Рахманинова сыграть. Этот сможет, точно. Умеет вторым. Никто так не умеет... Прохор, да. Смешной такой, Небейголова. Чего? Да фамилия такая, представь!»
Смешной. Сам-то, можно подумать, не смешной. А все ж таки за Олю он у меня получит в табло, какой бы он ни был Густав.
Я просидел в туалете до темноты. Меня искали, звонили. Не отвечал.
А потом тихо вышел из школы, вокруг никого. У перегоревшего фонаря стало видно, какое небо звездное.
Я включил у себя в голове концерт Рахманинова погромче и пошел домой.
| Нина Дашевская |
Художник Елена Эргардт | |
| Страничка автора | Страничка художника |