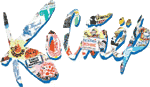Май-июнь 2014 года

…

Рассказ
1
Мать вернулась с фермы. Не сняв сапог, прошла в комнату, тяжело села на кровать; даже покрывала не откинула. Опустила между колен руки. Какое-то время смотрела безучастным взглядом, как медленно набухают темные вены, как выпирают они веревочными жгутами.
Она подняла голову, прислушалась.
— Витька, ты?.. Чего там шуруешь? — и, не дождавшись ответа, спросила о другом: — Это ты вчера с дружками коней угнал с конюшни, кататься надумали? Кологривов ругался на чем свет... Слышишь?!
— Чего?
— Чего, чего!.. Чего ты там роешься, чертенок ты этакий!
— Надо.
— Матери как отвечаешь? Я бы отцу родному так ответила... Закрой шкаф, тебе говорят!
— Ладно, не ругайся. Нашел.
— Чего еще там нашел?
Витька положил на стол альбом с фотографиями, порылся в нем.
— Мам, это он?
— Кто — он?
— Будто не знаешь. Дед.
— Ну, он. Кто ж еще, — мать недоверчиво посмотрела в хмурое лицо Витьки. «Бровей никаких, а туда же — супит...», — подумала она, переводя взгляд снова на фотографию. Засмотрелась. Давно не видела. Альбом доставать — настроение надо.
— А Зимин-то, Зимин, — ткнув пальцем, сказал Витька, — на войну собрался, а улыбается — рот до ушей. И гармошку растянул от плеча до плеча. Будто знает, что живой воротится. И дед улыбается. Да не так весело... Мам, а чего он в шапке? Тепло, вроде, было, когда уходили.
— Уходили... Кто в чем уходил.
Витька вглядывался в уже расплывающееся от времени лицо деда.
Дед сидел на телеге, свесив ноги, в сапогах с широкими голенищами. В руках его что-то белело, похоже, обрывок бумаги. Видать, собирался свернуть цигарку. По сторонам от деда стояли Булахов из Крутояровки и Егор Зимин — старший брат Степана Зимина. Лоб Булахова над глазами резали морщины. И Витька только теперь заметил, что дед его такой молодой. Моложе всех на фотографии. И даже куда моложе соседа — Степана Зимина. «Значит, молодыми остаются, когда на войне убьют. А еще, когда раньше времени умрешь и всей жизни тоже уже не увидишь», — подумал он, и ему стало страшно. Вдруг он — Витька, завтра или послезавтра умрет. Такое ему никак было не представить себе, и страх очень быстро, незаметно прошел. Только вот деда было жаль. Шла жизнь, на дворе стояла зима, рос он — Витька, а дед никогда уже этого не узнает и не увидит. А ведь он был такой молодой...

— Мам, а похоронка осталась? — спросил Витька.
— Знаешь хоть, что это такое? — не сразу откликнулась она.
— Знаю.
— Чего-то раньше не спрашивал.
— Так осталась?
— Спохватился. Подевалась куда-то. Бумажка все же. Помню, что погиб под Воронежем, у деревни Алисово.
— Под Воронежем, у деревни Алисово, верно? — переспросил Витька.
— Тебе-то какая разница?
— Эх, ты, бумажка... — поджал губы Витька. Помолчал, сердито сопя. — А фотографию на стенку повесить надо. В рамочке.
— Еще чего. И так желтее желтка, одна гладкая бумага скоро останется. Да и не вешают теперь на стенки, в рамочках...
Витька слушал мать рассеянно, соображая что-то свое.
— А может, — встрепенулся вдруг, — пока еще можно, переснять, а?.. Фотоаппарат бы вот только!
Мать сидела, откинувшись, прикрыв глаза. Одной рукой она упиралась в кровать, другой — растирала поясницу. Неожиданно глаза ее приоткрылись, она вся подалась вперед.
— Ну, стервец! Подъехал-то как! — закричала. — Я-то, дура, думала, дед, на войне убитый, у него в голове, а у него аппарат в башке. Не на что нам аппараты покупать, не на что! Еще не наскребли. Тащи сапог, видишь, мать с работы пришла!
Витька вытянулся струной, дернул плечом, поджал губы, процедил:
— Сидела — сидела, отдыхала — отдыхала, а теперь сапога самой не снять. Больно нужен мне твой аппарат...
— Заработаешь у меня сейчас, заработаешь. Тащи, кому говорю!
2
Он прибежал в клуб раньше других. На пороге его перехватил Василий Тихонович.
— Ты куда?
— Ясное дело, печку растапливать, — пальнул Витька приготовленным ответом.
— Шибко деловой, — недовольно проворчал Василий Тихонович, задумчиво нашаривая что-то в карманах штанов. — Рано еще топить.
— Топить-то рано, — легко согласился Витька, но с прежним напором добавил: — Да золу, дядя Вася, надо бы выскрести. Давно же не чистили.
Киномеханик достал наконец из кармана маленькую трубочку карбюратора. Дунул в нее, посмотрел на свет, прищурив глаз.
— Ладно, годится, — сказал. — Выгреби. А золу посыпь под крыльцом. А то такую наледь раскатали, иному и не пройти.
Витька обрадовался, но виду не подал.
— Посыплю, дядя Вася, — сказал деловито. — До самой дороги посыплю.
Он еще гремел кочергой, когда показались ребята. Тянулись друг за другом гуськом, с опаской поглядывая на окошечко в перегородке.
Мишка присел рядом.
— Витьк, дядя Вася тут? — спросил шепотом.
— Где ж ему быть. Вот черт!.. — ругнулся Витька, с трудом выдергивая кочергу, попавшую в щель решетки.

— Ну, как он? С какой ноги встал?
— А ты у него спроси.
Мишка опешил.
— Тебя как человека спрашивают, а ты...
— Он думает, его пустят, а нас — нет, — сказал Толька по фамилии Печальный. — Еще увидим. Айда, Мишка, за дровами!
Грохнулась о пол первая охапка поленьев. Надрав бересты, Витька принялся разжигать. Вскоре от чугунной дверцы потянуло теплом. Комья снега, оброненные на железный лист под дверцей, начали оплывать.
Поглядывая за огнем, Витька с тревогой гадал: выгонит — не выгонит. И, словно подслушав его тайные мысли, Мишка сказал:
— А чего ему нас гнать? Печку почистили, протопили. Под лавками пол вымели.
— Будто не знаешь дядю Васю, — возразил Толька. — Шлея под хвост попадет, так погонит за милую душу.
Народ уже тянулся к клубу. Торопливо бросали с крыльца в снег окурки, и они падали, шипя, раскидывая пучки мелких искр. Входили, не спеша рассаживались по лавкам. Перебрасывались шутками. Кое-кто осторожно, в кулак, снова закуривал, уже сидя на месте. Но Василий Тихонович был начеку. Он стоял в дверях и недовольно поглядывал по сторонам.
— Кузьмин, а ну марш на улицу смолить!
— Не серчай, Тихоныч. Я тут в уголку у стенки. В обнимку с огнетушителем. Ежели чего, прысну на огонек, — под общий смех, с уморительно серьезной миной на лице, пытался оправдываться Кузьмин.
— Поваляй мне дурня, поваляй, — не на шутку сердился киномеханик. — Враз движок заглушу.
Вторую неделю в клубе не было постоянного света, — меняли столбы электропередачи. Выручал старый движок. Каким-то чудом Василий Тихонович его завел и был этим страшно горд: чуть чего, грозился заглушить. Поэтому Кузьмин с притворным испугом ответил:
— Ой, Тихоныч, погоди тормозить тарахтелку, погоди! Иду хоронить окурок, иду, Тихоныч.
Ребята сидели на передних лавках. Молча сидели, не шелохнутся. Когда взгляд Василия Тихоновича скользил по их макушкам, они так и втягивали головы в плечи. Но похоже было, что киномеханик и впрямь забыл о них.

— Ну, чего ты, Тихоныч, томишь? Давай.
— Давай, Тихоныч, крути, — раздавались голоса.
— Безбилетников нет? — в последний раз строго спросил киномеханик.
— Как нет?! Вон же они. Приумолкли в потемках, как куры на насесте.
Но Василий Тихонович ничего не ответил. Повернулся, пошел к себе.
В проходе у дверей погасла лампа. На темно-сером экране замельтешили белые искры. Витька наконец-то вздохнул и выпрямился.
И опять вспыхнула в небе ракета. Ее расплывчатое пятно белело долго. И как только оно погасло, заснеженная поземкой земля содрогнулась. Темные, вывороченные взрывом комья взлетели к небу. Стекла в окнах клуба отозвались тоненьким звоном.
Грохот снарядов и свист падающих бомб перекрывал сурово-спокойный голос диктора: «Несмотря на сильный мороз, глубокий снег и метель, оборона противника после ожесточенных боев двадцать четвертого — двадцать шестого января была прорвана. Двадцать седьмого января советские войска Воронежского фронта под командованием генерал-полковника Голикова, сжимая кольцо окружения, начали отрезать пути отхода противнику и к исходу двадцать восьмого января, соединившись в районе Касторной, завершили полностью его окружение...»
Витька подался вперед, весь напрягся. Вот сейчас... Сейчас справа, из редкого леска покажутся танки.
Их еще не было видно, но уже слышался лязг гусениц и хриплый гул моторов. Вот они ползут по глубокому снегу, толкая впереди себя рыхлые сугробы. Вслед за ними — бойцы. Сначала маленькими группами. В маскхалатах и просто в шинелях, держа наперевес винтовки. Они бегут, пригнувшись, прячась за броню танков. А те, что за ними — уже во весь рост.
Один из бегущих, совсем рядом, вдруг поворачивается лицом к Витьке, призывно взмахивает рукой. И Витька, привстав, впивается глазами в темное, знакомое лицо бойца. Взгляды их встречаются на какой-то миг, но разноголосое «Ура!» подхватывает бойца, и он бежит вперед, навстречу смерти, без которой не приходит победа на войне.
— Ура-а!.. — кричит Мишка вместе с другими ребятами. Он толкает Витьку локтем в бок, подбрасывает шапку. От этого экран на мгновение закрывает черная тень: ни танков, ни бойцов — слышны только взрывы и затухающее «Ура!». Витька бешено размахивается кулаком.
— Ты чего?!. — писклявым голосом, на весь клуб орет Мишка. — За немцев, что ли?!.
— Сам ты за немцев! — шипит Витька. — Я тебе покажу фрицев! — и он размахивается для второго удара, но тут:
— Цыц, бесенята! — ухнул басом плотник Печальный.
И уже в полной тишине продолжал звучать голос диктора: «К исходу тридцатого января часть сил окруженной группировки южнее Нижней Ведуги была ликвидирована, а основные силы зажаты в районе Ново-Ольшанка, Алисово, Горшечное, Старый Оскол и в последующих боях уничтожены».
3
Из ворот ремонтных мастерских вышел председатель Кологривов. Он, видно, еще не остыл от недавней с кем-то ругани. Сердито затаптывая каблуком окурок, продолжая сам с собой: «Над душой стоял, по пятам ходил. Ныл, просил. Ладно — дали! С капиталки машина — куда лучше. И — нате! Трех месяцев не проработал — полетела коробка передач. Ну, разгильдяй!.. И я тоже... Кому дал?! Да разве не знал: этот лишний раз не посмотрит, не протрет, не смажет...»
Из проулка, тяжкой трусцой вперевалку выскочил киномеханик.
— Антоныч! — окликнул председателя.
Но Кологривов не слышал.
Киномеханик прибавил ходу.

— Антоныч, постой! Ишь, разогнался...
Кологривов остановился. Казалось, с трудом повернул голову на короткой кряжистой шее.
— Ну? — спросил недовольно. — Чего у тебя там?
Низенький, грузный Василий Тихонович, толком не отдышавшись, потянулся к уху председателя.
— Слышь, Антоныч... тут это... Тут диверсия...
Кологривов даже отшатнулся.
— Ты, брат, — сказал, запинаясь, — случаем, не надышался ли какой сивухи?
— Шутишь, Антоныч.
— Мне, Тихоныч, сейчас ой как не до шуток. Говори порядком: какая такая диверсия? Где?
— А такая. Самая натуральная. Тридцать метров пленки пропало. Ровно корова языком слизнула. Вырезали и следов не оставили.
— Вот черт! Напугал же ты... Думал, взорвали где что, или подожгли. Послушай, Тихоныч, — Кологривов перевел дух, — может, у тебя там парень с девкой засняты — в кустах целуются. Или еще чего-нибудь такое...
— То-то и оно, что нет!
Василий Тихонович снова потянулся к уху председателя.

— Пленка-то — документальные военные кадры. Наступательная операция Воронеж–Касторная, понял? Дело-то серьезное...
— Да-а, странно... — задумчиво протянул Кологривов. — И кому понадобилось? Чистое же хулиганство. Постой, Тихоныч. А может, с базы получил такую, с изъянцем?
— Да ты что, председатель? Столько раз ее крутил. Почитай, каждый кадр наизусть помню. Как и на базу теперь сдавать-то — прямо не знаю, — развел руками киномеханик.
Кологривов бросил взгляд на его короткие толстые пальцы, подумал: «И как он только ими управляется в своем тонком деле?..» Потом неожиданно вспомнив недавнюю ругань, запоротую коробку передач, озлился лицом.
— Ну вот что, Тихоныч, — сказал резко, — мне с твоими заботами некогда, своих выше головы. Разбирайся сам. Как прояснится, дай знать. Приму меры. Будь уверен, строго взыщу.
— Разбирайся... Да тут следов никаких, хоть милицию зови.
— Ладно, ладно. Попробуй без милиции сперва.
4
Продавщица сельповской лавки Алевтина зажгла керосиновую лампу и повесила ее на гвоздь, повыше. Тусклый шар света раскатился по сторонам, но полки за спиной Алевтины так и остались темнеть пустотой. А на тех, что были чуть дальше по левую и по правую руку, теперь поблескивали праздничной новогодней желтизной банок рыбных консервов.
Алевтина выглянула в окно. В сумерках на безлюдьи свежо белел снег. Прошлой ночью крутым снеговеем завалило дороги, пообрывало на столбах провода. Свет чинили, но огрузшие провода все еще лопались то там, то здесь. Не раз Алевтина подумывала запереть лавку, пойти домой. Уже давно пора было кормить скотину. Но в лавке был народ, больше старухи. Кое-кто пришел из Крутояровки. Да и машина с хлебом могла вот-вот подойти.
Бабы так и стояли бочком по прилавку, очередью. Тихо переговаривались. Про невидаль нынешней зимы, о домашних делах, или вдруг начинали судить-пересуживать кого-нибудь, кого не было в очереди.
В дальнем темном углу, у самой входной двери, возилась от скуки ожидания ребятня. Сопя, толкая друг друга, пока один из них не сваливался с грохотом на пол. Потом оттуда слышался сдавленный смех.
— Вот загомозились. Ну, чего там?!
— Ноги не держат?!

— Совсем уж... — одергивали их.
В наступившей тишине с фермы доносилось жалобное мычание телят. Они давно хотели пить, но без электричества стоял насос.
— Маются, родимые...
— Им погода — не погода, а дай свое, — жалеюще отзывались у прилавка.
— Как там, Алевтина? Не слыхать? — туговатый на уши, громко спросил Булахов. Он сидел в темном углу, подложив под негнущееся колено палку.
Продавщица не ответила.
— Забуксовал дорогой, видать, — продолжал Булахов, — ничего, допрется. На него бомбы не валятся.
— Так я и стану ждать до ночи, — отозвалась Алевтина без всякого раздражения в голосе.
— Верно, — сказал не расслышавший Булахов. — Снегу-то сколь накидало. Аккурат как тогда, в сорок третьем... Танки там, пушки, мы — пехтура — вперед ломимся. А тут, когда надо, чертовой кухни с харчами нет как нет. Определенно гдей-то застопорится. Другой раз по трое суток без горячего, на сухом...
Ребята в своем углу перестали возиться, навострили уши.
— Бабоньки, да вы послушайте! — громко, чтобы докатилось до глухого Булахова, сказала молодая Паша Григорьева. — Много бы ты навоевал на голодное-то брюхо?!
— Не знаешь, помалкивай, — спокойно сказал Булахов, словно ничего другого от Григорьевой и не ожидал. — Ты, что ли, Гитьлеру хребет ломала? Тебя тогда еще и в заводе не было.
— И не ты один! Сидел бы уж, ломальщик!..
— Ты чего, Пашка, взвилась!
— Кому такое говоришь?! — набросились на Григорьеву старухи.
Булахов, похоже, не расслышал заступниц.
Хотел было вскочить, но помешала нога.
— Чего-о?! — протянул он, оседая на заскрипевший под ним ящик. Закричал еще громче, сердито: — Алевтина! Слышь, Алевтина?!
— Ну? Чего расшумелся-то? — лениво отозвалась продавщица.
— Ты не нукай, ты скажи: видала, в клубе военную хронику показывали? Видала?!
— Видали, видали, — поспешил кто-то за Алевтину.
— Так то нашу дивизию зафотографировали. В боях под Воронежем. Вот так!
— А тебя там, часом, не зафотографировали? — ехидно уколола Григорьева.
— Меня нет, — грустно усмехнулся Булахов. — В аппарат не попал. Это ж дивизия — народу-то скопище какое...
Он замолчал, но через минуту вдруг оживился.
— Зато, бабоньки, Натальиного батьку засняли. Ну, вылитый Петруха. Мы ж с ним в одно время и уходили. И воевали в одном полку. Сперва, правда...
— Постой, Булахов, — сказала ожившим голосом продавщица. — Какой Петруха? Какая Наталья? Говори толком.
— Да Степанова. На ферме у вас, ну?.. знаете?
— Наталью-то!
— Да верно ли, что ее отец-то?
— Я и парнишке Натальиному сказал, — продолжал Булахов. — Так мол и так. Дедка твоего видал. Живого, во весь рост.

— Ты погоди, — громко осадила старика Алевтина, — не обознался ли?
— Чего там! — сокрушенно махнул рукой Булахов. — По правде говоря, обознался, бабоньки. Потом-то дошло. Петруху убило чуток раньше, аккурат перед наступлением.
— Ну вот! Тянули тебя за язык.
— Только воды намутил, сбил парня с толку.
— Может, оно и так. До меня как дошло, прямо скажу, засовестился. Тоже подумал: вот учудил старик. А потом иначее стал думать. Теперь, думаю, верно сделал, что так сказал.
— Чего ж верного-то — вранье же?
— А то. Не видал мальчонка путевого батьки, так пускай хучь геройского деда помнит. Чего там... Уж так похож тот солдатик на Петруху Степанова, близнецы и только.
В наступившей тишине было слышно, как потрескивал фитиль лампы, как шурша полами полушубка, старик Булахов доставал курево. Наконец он затянулся едким дымом, закашлялся.
— А ногу мне, — сказал, будто самому себе, — покорежило аккурат в августе тыща девятьсот сорок четвертого. Под Яссами. Ты, Григорьевна, молодая, может, не слыхала такого города. В Румынии он. А то, что я с твоей родней не в ладах, так то в одну кучу не вали.
Григорьева промолчала.
Неожиданно хлопнула дверь.
— Кто там? Пришел кто или ушел? — не сразу спросил чей-то голос.
Алевтина, прикрываясь ладонью от света, глянула в окно.
— Ушел. Кто-то из ребятишек, — сказала.
5
— Пока ты в лавку ходил, свет дали.
— Вижу.
— Хлеб привезли?
— Да нет еще. Чуток поздней схожу.
— А чего не дождался?
— Так...
В избе было темно. Они сидели на корточках по обе стороны табуретки. Луч света из фанерного ящичка падал на белую известку печи.
— Все кино крутишь? — хмуро сказал Мишка.
Витьке не понравился этот Мишкин тон.
— А чего?! — от смутного предчувствия начинал злиться он. На него накатывало. А когда накатывало, он был готов, не раздумывая, хоть в драку. Но не с чего пока было.
— Так, ничего... — сказал Мишка тем же голосом, старательно выдвигая трубку с увеличительным стеклом. Теперь изображение стало немного отчетливее.
Витька часто задышал, глянул краем глаза на Мишку, но увидел только щеку, забеленную лучом света. Щека его чуть розовела с мороза.
— В лавке там... старик Булахов был... — сказал Мишка, не поворачивая головы, глядя на изображение.
— Та-ак... был... Где ж ему еще хлеб брать, как не в лавке?!
— Ты, Витька, не злись, не злись... А то ведь я тоже могу.
Эти слова довели Витьку до точки. Неожиданно и резко он ткнул кулаком Мишку в плечо. Тот опрокинулся на спину, грохнул головой о пол.
— Драться, да?! — крикнул, вскочив на ноги.
— Накостылять я тебе еще успею, — так же внезапно начиная остывать, сказал Витька. — Ты говори: чего там Булахов...
Подстегнутый угрозой, Мишка рванул:
— Не дед это твой вовсе. Понял!..

В полумраке они стояли один напротив другого. Витька смотрел в упор в невидимые глаза Мишки, все еще пошевеливая кулаками в карманах.
— Ну и что? — процедил он. — Слыхал...
— Слыха-ал?! — Мишка разом обмяк. — Постой, Витьк. Так как же, а?.. — совсем другим голосом, скорее проканючил Мишка.
— Чего «как же»? — с ухмылкой спросил Витька.
— И теперь все так же, — Витька помолчал. В горле у него пересохло, и он продолжал с хрипом. — Я ведь, что диктор говорил, все запомнил. До словечка. И понял кое-что. Бои на пленке засняты с двадцать четвертого января по двадцать шестое. Вот. К тридцатому января наши еще только зажали немцев в районе Ново-Ольшанка, Алисово, Горшечная, Старый Оскол. А разбили позже. Понял? Так что деда моего потом убили, в тех боях. А Булахов, что? Булахов по старости все запамятовал, спутал. Говорит, его раньше убили. Получается, раньше двадцать четвертого. Да как же раньше, когда убили его под Алисово. Понял?
Мишка только хлопал глазами.
— Витьк, а если все же того... — сказал он наконец осторожно.
— Чего все же?! Чего все же?!. — на Витьку опять накатывало. — Мой дед! Чего хотите болтайте, а я его за просто так не отдам! Я, брат, знаешь, сколько думал-передумал, — прохрипел тихо, опять остывая. — Ладно. Ты это... все припрячь пока, — Витька кивнул на ящик. — Куда-нибудь подальше. В подпол, что ли, за картошку. Пойду я...
Витька шел огородами. Прямая тропа далеко угадывалась бороздой со снежными застругами по обе стороны. Подмораживало. Глубоко увязая в теперь уже легком, пушистом снегу, нога не сразу нащупывала умятое, плотное. Валенки оставляли за собой два тянущихся неровных следа, похожих на лыжню.
Он добрел до дороги. Перелез через канаву, обстукал валенки. Пошел вдоль обочины. Он не слышал, как тягуче проскрипели доски крыльца, не сразу увидел, что дорогу ему заступил Степан Зимин. Увидел, когда чуть не ткнулся в него головой.
— Укараулил я тебя, — сказал Зимин, крепко держа его за плечо. Чуть позже, сквозь вату телогрейки, до пальцев Зимина донеслась мальчишеская щуплость плеча. — Мать твоя в избе... обрывок ленты нашла...
Витька уже не раз вскидывал голову, но от резкого движения шапка опять ползла на пуговицу носа. Наконец он подтолкнул ее спереди, рукой. Посмотрел в темное заросшее лицо соседа.
— Мать твоя это... — сказал Зимин, — наказала, чтоб это... отодрать тебя.
— Не дамся, — пальцы Зимина были разжаты, и, рванувшись плечом, Витька упал бы, если бы тот не подхватил его на лету. — Хватит! Не маленький! Больше не дамся! Только попробуй!.. — кричал Витька, выставив и сжимая кулаки.
— Цыц! — глухо рявкнул Зимин.
Бледным, заострившимся лицом, словно вдруг окатили его студеной водой, Витька уставился на Зимина.
— Э-эх, Витяй, Витяй, — Зимин чесанул щеку так, что щетина затрещала под ногтями. — Растешь ты, как чертополох колючий...
Он замолчал. Шумно и тяжело выдохнул.
— Ладно, — сказал, — ступай. И это... снегом глаза потри. Понял? А матери скажешь, что я это... того... как она велела...
Зимин повернулся и пошел.
Витька стоял и не слышал, как снова с арбузным треском прогнулись половицы крыльца под грузными шагами.

Наконец он опомнился, пошел. Все так же сутуля плечи, глядя себе под ноги. Сворачивая с дороги, он вдруг остановился, запрокинул голову, придержав шапку рукой.
Над ним простиралось небо. Оно угомонилось еще вчера, вытряхнув на окрестные поля и леса неизмеримые запасы белых хлопьев из мелких холодных звезд. Теперь оно казалось раскинувшимся отдохнуть. В его черной, незамутненной глубине плавали совсем другие звезды. Сказочно крупные, ослепительно яркие. Их было много. Иные, едва касаясь друг друга лучами, выстраивались в загадочные созвездия. Но всем им вольно дышалось и было просторно. Так, что молодой, только народившийся месяц, не мог своим сиянием притушить свет хотя бы одной, хотя бы самой далекой.
От редакции. В 2012 году рассказ Александра ГИНЕВСКОГО «ЧЕРТОПОЛОХ» удостоился Почетной Грамоты 1-й степени на Литературном конкурсе имени В. Г. Короленко.
| Александр Гиневский |
Художник Виктор Пономаренко | |
| Страничка автора | Страничка художника |