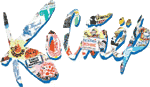Март 2008 года

…


Если бы не Мария Степановна, мы бы с Егоркой ни за что про 8 Марта не вспомнили. Как-то мы к нему еще не привыкли. Пришло первое марта, значит, весна. О весне мы, конечно, задумывались, да и Мария Степановна спрашивала на уроке:
— По каким признакам можно понять, что пришла весна? Егорка сказал, что по календарю. Даша Котикова — что по яркому солнцу. Леша Герасимов добавил, что прилетают птицы и тает снег.
А я руку держал и боялся, вдруг кто-нибудь сейчас вспомнит то, что хочу сказать я. Зря переживал — никто не вспомнил! И Мария Степановна, наконец, одобрительно кивнула:
— Ну, Миша, теперь ты. Самый главный признак весны — это...
И я выпалил:
— Самый главный признак весны это — мотоциклы!
И все засмеялись. Мария Степановна удивилась и спросила:
— Почему?
И я объяснил:
— Когда солнце яркое — это еще не признак. Потому что оно не для всех яркое. Можно и не заметить. Если пятерку получишь, самый хмурый день будет солнечным, а если двойку, то наоборот: сам идешь, как туча, и все вокруг серое. А что птицы прилетают, так они, может, в лес прилетают. А в нашем дворе главные птицы — воробьи, вороны и голуби. И они круглый год есть. Другие, может, прилетают, но редко, их и не видно. А что на календаре весна, так это бумажная. Снег еще может долго, до конца марта лежать.
И я остановился, чтобы воздуху набрать побольше. И посмотрел на ребят. Все слушали меня с интересом. Еще бы, не знают главного признака, а смеются!
— А самый главный признак весны — это мотоциклы! Зимой они стоят в гаражах, а как станет асфальт сухим, сразу затарахтят по дорогам. И когда я слышу, как мотоцикл тарахтит, то даже в окно смотреть не надо. Сразу понятно — весна!
— Но все-таки, Миша, ты заметил, что дни становятся длиннее? Ведь этот признак важнее мотоциклов? — спросила Мария Стапановна.
Я задумался. Конечно, зимой в шесть часов, когда уроки поучишь — уже темно. А весной в шесть часов светло и весело, можно идти во двор гулять. Но я не хотел уступать.
— Если сидеть с закрытыми глазами, Мария Степановна, то совсем и не видно, что день стал длиннее. А тарахтящий мотоцикл и с закрытыми глазами услышать можно. Значит, они нам про весну говорят больше.
— Надо же! — удивилась Мария Степановна. — Никогда не замечала!
Но все-таки учительница меня похвалила и сказала, что это интересное наблюдение. И я с гордостью посмотрел вокруг себя. Сначала думать надо, а потом смеяться.
А пятого марта Мария Степановна спросила, помним ли мы про Международный женский день и какие подарки мы приготовили мамам. И странное дело, все девчонки помнили прекрасно! А из мальчиков только Вова Петров и Юра Мухин.
Подарки, которые они сделали или еще делали, мне не понравились. Настя Павлышко и еще пять девочек нарисовали рисунки. Женя Тарасова собиралась с бабушкой испечь торт (знаю я, бабушка будет печь, а кто-то крем слизывать, когда она отвернется). Аля Селикова хотела подарить маме белую мышку (у Алиной подружки мышь родила восемь мышат). Вова Петров вылепил самолет из пластилина. А Юра Мухин платочек вышил. Он этот платочек всем показал. Оказывается, Юра боялся, что мама как-нибудь до праздника платочек найдет, и все время его с собой носил.
Платочек как платочек. Беленький. А на нем кривыми зелеными ниточками вышито «МАМА». Все ахнули, конечно. Особенно девочки.
Когда мы с Егоркой шли домой, я сказал:
— Разве это подарки? Это только малыши мамам картинки рисуют. А мышка? Аля себе хочет мышку завести, а мама ей не разрешает, вот она и решила подарить ее на Восьмое марта. И пластилиновый самолет маме зачем?
— Но платочек-то хороший, — заступился за Юру Егор.
— Ну, платочек ладно, — не стал я спорить, — но это ведь не мужской подарок.
— А какой мужской?
— Вот мой папа, когда был маленький, выжигал на дощечках разные картинки. Знаешь, как красиво? Я у бабушки видел.
— А чем он выжигал?
— Специальным прибором, — объяснил я.
— А он у тебя есть?
— Конечно! Бабушка его специально для меня сохранила. Только найти не может.
— Значит, нету... — вздохнул Егорка.
— А еще мой папа делал чуканки. Или чаканки. На железных листах выбивал гвоздиком рисунки. Тоже красо-о-ота!
— Чеканки, — поправил Егор, — а у тебя есть железные листы?
— Не-а...
— Значит, и чеканки мы тоже не сможем, — опять вздохнул Егорка, — остаются платочки.
— Ты что?! Какие платочки! Мой папа еще «папью-машу» делал. Мишку, зайчика и кувшинчик.
— А что это? — заинтересовался Егорка. — Какая «папья-маша»?
— Ну, это такие фигурки красивые. Скульптура такая маленькая, раскрашенная.
— Ну, если скульптура, — обрадовался Егорка, — давай сделаем. Скульптура — это не платочки. Это серьезно!
— Конечно! — ликовал я. — Как принесем в класс, как покажем, ахнут все!
— А ты знаешь, как эту «машу» делать?
— Пока не знаю, у папы спрошу.
— Ты поскорее спроси! — поторопил меня Егорка. — Не забудь!
И надо же! До вечера я и в самом деле забыл! То уроки делал, то Тишку дрессировал на сторожевого кота (чтоб он мяукал, когда в двери звонят), то в солдатиков играл, то ужинал — в общем, абсолютно забыл, совершенно! Хорошо, что Егорка вечером позвонил, напомнил.
Я тогда папу в ванную завел, включил воду, чтоб мама ничего не услышала, и расспросил про «папью-машу». И папа мне все-все рассказал. Ничего сложного, выяснилось. А называется правильно «папье-маше». Я даже на бумажке записал, чтоб до утра не забыть.
В школе Мария Степановна спросила тех, кто вчера молчал, что они придумали подарить мамам. Я встал и сказал гордо:
— Мы с Егором — поделку «папье-маше»! И Мария Степановна нас похвалила:
— Папье-маше — это удивительно красиво!
Пришли мы из школы, поели у меня супа и сразу за работу принялись. Папье-маше — это просто! Нужно из пластилина. фигурку вылепить, а потом ее малюсенькими кусочками газеты обклеить. Подождать, пока высохнет, и еще обклеить, а потом еще. А потом разрезать пополам, вытащить пластилин, сложить половинки и снова оклеить. А потом уже раскрасить, как хочешь. Получается настоящая игрушка, как из магазина.
— Работу давай поделим, — предложил Егорка. — Ты лепи, а я буду газеты рвать.
— А чего лепить-то?
— Для моей мамы вылепи маленького поросеночка, чтобы он в одной лапке торт держал, на котором написано было «8 марта», а в другой цветы. Чтоб он был в джинсах, полосатой маечке и веселый.
— Ладно, — согласился я, — а для своей я вылеплю вазочку.
Я притащил ворох газет, достал пластилин. И мы занялись каждый своим делом. Я лепил сначала шарик, потом столбик-туловище, потом маленькие столбики-ручки. А Егорка рвал газеты и складывал кусочки рядом с собой. Но когда я стал делать столбики-ножки, раскатывая пластилин ладошкой, стол пошатнулся, и все Егоркины бумажечки слетели на пол.
— Ты чего? — возмутился Егорка. — Специально?
Я объяснил, что это не я, а стол. Егорка засопел и полез бумажки собирать. Пока он на четвереньках лазил, я уже ножки-ручки к туловищу приладил. А голова с ушками прикрепляться не хотела никак. Тогда я шарик на стол положил и сверху туловищем по нему ударил — бац!!!

А Егорка как раз в этот момент бумажки опять на стол высыпал! От моего «бац» они разлетелись в разные стороны, как салют! И вверх, под потолок, и на диван, и на книжные полки, и даже на Тишку!
Егорка как закричит, как даст кулаком по поросенку — хлоп! Лепешка ка с ушками получилась!
— Ты чего? Разве я специально?
— А зачем ты по столу ударил?
— Голову прилеплял, вот и ударил! А ты зачем поросенка расплющил?
Егорка надулся и пошел в прихожую, обуваться.
— Ты чего? — побежал я за ним. — Давай коробку достанем. Ты станешь туда бумажки складывать, и они разлетаться не будут.
Егорка посмотрел на меня подозрительно и сказал:
— С крышкой.
Мы нашли такую коробку в шкафу. Выложили из нее мамины клубки с шерстью.
Отличная коробка, большая! Как раз то, что нужно!
— Может, клубки в шкаф сложим? — спросил Егор.
— Потом! — махнул я рукой. — Потом, когда папье-маше высыхать будет.
И мы снова стали трудиться. Я за столом, а Егорка на полу, в другом конце комнаты, чтоб я нечаянно его коробку не толкнул. Он отрывал от газеты кусочек, клал в коробку и сразу накрывал крышкой, на всякий случай. А потом снова отрывал, поднимал крышку, прятал и опять закрывал. И на меня с опаской из своего угла поглядывал. Вот чудак!
А я лепил поросенка из примятой лепешки заново. Он получался толстый и веселый, как раз такой, как хотел Егорка. И когда я уже пятачок приделывал, вдруг краем глаза увидел что-то лохматое розово-зелено-синее и шерстяное! Оно шло из спальни и громко мяукало! Егорка закричал:
— Клубки твоей мамы!
Я завизжал:
— Лови!
И мы стали бегать за Тишкой! А он от нас! Шерстяные разноцветные нитки развевались на нем, как флаги. Он метался — под стол, под шкаф, под кресла! А мы бегали за ним и кричали друг другу:
— Заходи слева! Заходи справа!
Тишка орал «м-ряу» и, как реактивный самолет, летал с дивана на полку, с полки на сервант, с серванта на штору. Там он наконец повис, испуганно вытаращив зеленые глаза и размахивая хвостом прямо перед носом Егорки. Я закричал:
— Егор! За хвост! Хватай! Уйдет!
Егор схватил, но промахнулся и дернул штору, она оборвалась, а Тишка пулей бросился в спальню. Как он туда забежал, мы не увидели. Потому что вдруг все стало белым-бело... Будто бы мы попали в снежное облако! Я закричал Егорке:
— Что это?!
А он почему-то завыл, как раненый зверь:
— А-а-а-а-а-а!!!
И тут облако немножко рассеялось, потому что оно стало на пол опускаться. И я понял, что это Егоркины бумажки!
— Это Тишка, — кричу, — коробку сбил! Лови его! И мы побежали в спальню.
А она вся — и кровати, и пол, и тумбочки — была опутана розово-зелено-синими нитками, будто там поселился волшебный паук и сплел паутину. Тишка, тоже опутанный нитками, сидел на шкафу и громко кричал:
— Мау-ау-ау!
Как скорая помощь!
Я побежал на кухню и принес оттуда кусок колбасы. И стал ею Тишку выманивать.
— Как только он прыгнет, хватай его на лету, — объяснял я Егорке, — а я буду внизу ловить. Тогда кто-нибудь из нас обязательно поймает!
Но Тишка не хотел колбасы, он понимал, что виноват. И боялся.
— Тащи стул, — сказал Егорка уверенно, — сейчас мы его достанем! Только незаметно, чтобы он ничего не заподозрил!
Я побежал за стулом и, спрятав его за спину, стал петь:
| Жили у бабуси два веселых гуся! Один серый, другой белый — два веселых гуся! |
Чтобы кот подумал, что я просто так гуляю и пою. Но как только я подошел к шкафу, Тишка — ра-а-з! И прыгнул на кровать. Мы с Егоркой за ним — упали животами прямо посередине покрывала. А Тишка уже на карнизе висит! Он еще больше в нитках запутался. Превратился в толстый сине-розово-зеленый кокон, только хвост выглядывает, и голова немного. Егорка спрыгнул с кровати и побежал к шторе.
Я закричал:
— Не надо!
Но было поздно. Он дернул. Хорошо дернул. Кот прямо ему в руки свалился! А вместе с котом карниз и шторы упали — ба-бах!
Егорка испугался и говорит:
— Я нечаянно.
А я только рукой махнул. Потому что теперь уже все равно.
Сели мы кота распутывать. Невозможно! Все нитки переплелись, как в вязаной шапке. Я принес ножницы и стал аккуратно разрезать эту сине-розово-зеленую мешанину. Егор держал кота и волновался:
— Не зацепи Тишку! Осторожно! Меня не уколи!
А Тишка, вместо того чтобы сидеть спокойно, бился, царапался и пытался вырваться! Попробуй, обрежь! Он Егорке щеку расцарапал, а мне обе руки. Еле-еле я эти нитки срезал! Вспотел даже!
— Неси его в туалет, — сказал я грозно, — пусть там о своем поведении подумает. А мы пока нитки опять в клубки смотаем. Егорка отнес орущего кота в туалет и запер. Тишка там еще больше кричать начал, а двери скреб лапами так, будто он не один там сидел, а котов сорок!
А мы все распутывали и распутывали кружева-сети, ползая по полу на четвереньках.
— Ничего себе папье-маше! — ныл Егорка. — И уроки не сделали!
— Тебе что! Только уроки, а мне еще от мамы с папой попадет!
Пять раз Егорка в нитках запутывался, и три раза я, и мы, чтоб долго не мучиться, обрезали эти нитки друг на друге. Я нервничал и торопился! Совсем скоро должна была прийти моя мама.
В конце концов мы смотали эти злополучные нитки и сложили опять в коробку. Только раньше клубки были большие, как апельсины, а теперь они стали похожи на шарики для настольного тенниса.
— Ничего, Мишка, не переживай! Может, мама не заметит, — успокаивал меня Егорка.
А я вздохнул. Моя мама носит очки, и надеяться на такое чудо просто глупо! Потом мы бумажки газетные собирали. Егорка хорошо поработал, много нарвал. Они на люстре были, и под креслами, и в цветочных горшках на полках, и в кувшине на столе. И даже в мою комнату залетели, и на кухню.
— Ну его, это папье-маше, а? — сказал Егорка устало. Я посмотрел на оборванный карниз и согласился.
На следующий день мы вышивали с ним платочки. Егорка — поросенка, я — вазочку.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Мария Степановна раздала нам тетради с проверенным диктантом.
— Будем делать работу над ошибками, — сказала она. — Помните, что это такое?
Все загалдели, что помнят. А Даша Котикова руку подняла.

Мария Степановна подумала, что ей нужно выйти, и говорит.
— Выходи, Даша!
А Котикова встала и как затараторит:
— Работа над ошибками — это когда надо все слова с ошибками выписать и возле каждого написать правило, по которому была сделана ошибка!
Это она на одном выдохе сказала, быстро-быстро, как пулемет: тра-та-та-та-та-та-та!
Мы с Егоркой считаем, что Дашка выскочка. Ведь мы тоже знали, что это за работа, но не стали руку тянуть!
Только Мария Степановна Котикову похвалила:
— Молодец, Даша! Нужно, ребята, руку поднимать, когда хочешь что-то сказать, а не кричать с места.
Потом учительница вздохнула и показала нам какую-то измятую тетрадку.
— Как вы думаете, ребята, чья эта тетрадь?
— Егора! Егора Синицына! — закричали все.
Я глянул, а у Егора и правда на парте тетради нет! У меня лежит, а у него нет!
А Егорка голову повесил и на Марию Степановну даже не смотрит.
— Как вы догадались? — снова спросила учительница.
И тут все опять загалдели, каждый свое, только Даша Котикова руку подняла. И Мария Степановна опять ее вызвала.
— Это тетрадь Синицына, потому что она без обложки, грязная и у нее загнуты углы! — скороговоркой выпалила Даша.
А Егорка, бедный, еще ниже голову опустил...
— И знаете, чем еще эта тетрадь не похожа на остальные? Я не смогла поставить Егору оценку.
Весь класс ахнул, и даже Егорка искоса посмотрел на учительницу.
Как же так? Почему вдруг Мария Степановна не смогла оценку поставить? Может, Егорка на шестерку написал? Он ведь без ошибок пишет и вполне может и на шестерку!
Я тогда руку поднял и сказал:
— Мария Степановна! Если у Синицына в диктанте все так здорово, что для него оценок еще не придумали, то ведь можно пятерку со сколькими хочешь плюсами поставить! Хоть с десятью!
Я оглядел класс, как победитель, будто я сам такой замечательный диктант настрочил, а Котиковой показал язык. Учительница положила тетрадку на стол и посмотрела в окно. Когда Мария Степановна в окно смотрит — это неспроста. Это вам не Вова Петров, который все уроки туда глядит.
— Дело в том, что я не знаю, как написал Егор, — грустно сказала Мария Степановна. — Буквы у него наезжают одна на другую, часть их большие, так что можно подумать, что это заглавные, а часть — такие маленькие, что ничего понять нельзя. В диктанте всего 65 слов, и 25 из них я не смогла прочитать.
— Но ведь это диктант, — заступился я за Егорку, — вы и так знаете, какие там слова! Вы же сами нам их с книжки диктовали!
— Но я ведь не знаю, правильно ли они написаны, — возразила Мария Степановна.
— Конечно, правильно! Синицын без ошибок пишет!— закричали все.
— Я прочитаю вам, что написал Егор, — сказала Мария Степановна и снова взяла тетрадь: «Мы принесли елку в дым. На ней висели красивые шашки. За окном летали белые машки. Мы стали елку заряжать. Повесили на нее клопушки, разноцветные шары и фляжки. На красном шаре был нарисован Бед Мороз».
Весь класс прямо покатился от хохота, даже я пару раз улыбнулся, даже Егорка, хотя ему совсем не до смеха было.
А Мария Степановна сказала строго:
— Вот что, Егор, возьми тетрадь домой и все перепиши.
— А работу над ошибками делать? — пробормотал Егорка.
— Конечно, только не такую, как всем. Твоя главная ошибка — это почерк. Это даже не почерк — а безобразие!
Тут прозвенел звонок, и мы пошли по домам. И в раздевалке, и на улице все над Егоркой смеялись. Эх ты, говорили, Бед Мороз с клопушками!
А Егор ни на кого внимания не обращал. Он был грустный и задумчивый.
— Не расстраивайся, — утешал его я, — эти все клопушки только от почерка! На самом деле ты грамотнее всех в нашем классе.
Но Егор только рукой махнул:
— Какой толк, что я знаю, как писать правильно? Голова знает, а пальцы непонятно что выводят.
— Ну-ка, покажи, — говорю я, — может, они у тебя особенные?
Егор снял варежку, и я стал рассматривать его пальцы. И ничего не увидел удивительного. Пальцы как пальцы. Средний — красный, потому что нам в столовой свекольник давали, указательный — желтый, потому что йодом помазанный, остальные в чернилах. Обыкновенные. В нашем классе у всех такие.
— Знаешь, — говорю, — обычные пальцы, не в них дело! Я тебя сегодня же научу писать красиво.
Егорка опять рукой махнул:
— Смеешься...
— Нет, — твердо сказал я, — вот увидишь!
У лифта мы долго препирались, к кому пойдем делать работу над ошибками. И решили к Егорке, потому что у него на обед кукурузные хлопья с молоком, а у меня борщ.
Пришли, а Егор говорит:
— Есть потом будем, сначала научи меня писать, но чтоб как в прописях!
И тогда я пожалел, что к нему пошел, потому что у меня хоть и борщ, но сразу. Сели мы за стол. Он у Егорки красивый, весь в переводных картинках и наклейках от жевательной резинки. Он ему по наследству от какого-то троюродного брата достался. Только тогда стол был наполовину оклеенный, а сейчас весь! Мечта, а не стол! Жаль, моя мама этого не понимает и ничего на мебель клеить не разрешает.
Ну вот, достали мы чистую тетрадь, два стула к столу приставили, и я сразу сказал Егору:
— Ты только не смейся. И никому не говори.
— А чего смеяться-то?
— Ну, потому что — это игра такая, в человечков.
— Писать и играть? — удивился Егорка.
— Ну да. Тут главное, понять, что каждая буква — это человечек или солдатик. И у них у каждого характер, в него только вглядеться надо. Вот смотри.
Я написал буквы «А» и «Е».
— Видишь, «А» добрая, а «Е» ехидная.
— Не вижу, — сказал Егор, — буквы как буквы.
— Ну ладно. Это неважно, — разгорячился я, боясь, что Егорка раздумает учиться, — понимаешь, ты им как мама. Вот ты родился красивый и здоровый, а у нашей дворняжки хромой щеночек был, помнишь?
— Да, — сказал Егорка, — я ему колбасу носил.
— Ну, вот вспомни, ты носил, а он, когда подбегал — хромал. Его ведь жалко было.
— Жалко, — кивнул Егор.
— И вот буквы. Понимаешь, ты их можешь сделать любыми: хромыми, косыми и кривыми, но у каждой буквы только одна жизнь. И какую ты ее нарисовал, так ей и жить.
— Это как? — вытаращил глаза Егорка.
И я понял, что кукурузных хлопьев придется ждать долго.
— Ну вот твоя некрасивая «Х» всю жизнь будет мучиться, что она сгорбленная и на «К» похожа! А все другие буквы будут над ней смеяться и говорить, что она слово «хлопушка» испортила.
— Да они же не могут смеяться, — возразил Егорка. — И жизни у них никакой нет. Написал и забыл.
Тут я даже рассердился, до чего же он бестолковый!
— Это игра! — говорю. — Или ты поверишь, что они живут, ходят друг к другу в гости и плачут, как мы с тобой, или я тебя учить не буду!
И уходить собрался. Ну их, эти хлопья, думаю, у мамы борщ тоже вкусный! Но Егор согласился:
— Ладно, ладно, садись, пусть живут!
— И вот когда ты их пишешь, — обрадовался я, — они все хотят быть красивыми и со строчки не падать. Потому что тот, кто упал, — к другим в гости пойти не сможет.
— Что ж, эти буквы — плохие товарищи и не могут помочь?
— Не могут, — сказал я, — такие правила.
— А кто их придумал?
— Я! Дальше больше: если у тебя буква за поля вылезла, значит, она погибла.
— Это еще почему? — возмутился Егорка.
— Потому что правила!
— Плохие у тебя правила! — сказал Егор и насупился. Только я его не слушал:
— А если одна буква получилась длинная, то ее жирафой дразнят, а если маленькая, то лилипутом! А если толстая.
— Бочонком, — уныло продолжил Егор, — а если худая -шваброй.
— И они все любят строем ходить! Красиво, друг за другом, как солдаты на плацу, чтобы все на них любовались. Понял?
— Понял, — сказал Егор и открыл свою тетрадку.
И мы оба посмотрели туда. Буквы галдели, толкались, смеялись друг над другом, корчили рожи и без конца выпадали за поля. Часть букв цеплялась за строчку, а другие, как будто им места мало, пытались их спихнуть вниз. Какие-то буквы скрючились, словно у них болел живот, какие-то толкались, как мы на перемене, какие-то кувыркались, а некоторые лежали вповалку — куча-мала!
— Видишь? — спросил я.
— Ага! — протянул Егорка восхищенно. — Вижу! Они и правда, как живые!
— Все! — сказал я. — Я тебя выучил. Пошли есть хлопья!
— А тренироваться?
— Никакой тренировки, — сказал я убежденно. — Помни, что они живые, и все.
— Гениально! — восхитился он.
И мы пошли есть хлопья. И радио включили! И вентилятор! Потому что нам обоим весело стало. Мне потому, что Егорка все понял, да еще «гениально» сказал, а Егорке, потому что он поверил, что красиво писать будет.
— Знаешь, — волнуясь, говорил он, — мою тетрадь будут вместе с Дашкиной показывать, как образцовую!
— Да, — говорю, — только ты новую заведи. И обложку надень.
Но оказалось, что у Егорки обложки давно закончились, еще в сентябре. Тогда мы пошли ко мне, и я подарил ему новенькую прозрачную обложку с розовым поросенком.
— Ух ты! — обрадовался Егорка и умчался.
А я сел свою работу над ошибками делать. Потому что у меня одно слово было написано неправильно: «нарежать» вместо «наряжать». Я стал думать, почему так? И ничего придумать не мог. А тут Егорка звонит:
— Я сейчас к тебе приду с тетрадкой! Ставь чай! И прибежал через две минуты.
Глянул я в его тетрадь — чудеса! Все буквы стройные, одного роста! Все написаны ровно, красиво. И, правда, не хуже Котиковой.
— А у меня, говорю, «наряжать» не получается.
— Чего наряжать? — не понял Егор.
И тогда я ему свою тетрадку показал.
— Гляди-ка, — говорит он, — какая у тебя «у» злая получилась, кажется, что она «ш» укусить хочет. А «а», как зазнайка, не дает руку «р».
— Ты не туда смотри, — прошу я его, — объясни, почему слово «наряжать» через «я» пишется.
А Егор свое твердит:
— «Ж» какое-то унылое, наклонилось, «в» взлетело куда-то, как воробей!
Тогда я пальцем ему слово показал.
— А это слово, — говорит Егорка, — написано красиво!
Я даже ахнул! Надо же, чтобы человек в какие-то полчаса так изменился!
Он мне всегда сразу на ошибки указывал, если видел! А тут буква красной ручкой перечеркнута, а ему хоть бы хны! Ладно, думаю, в учебнике потом сам правило посмотрю.
Забрал у Егорки тетрадь и повел его чай пить. А на кухонном столе записка мамина лежала: «Не забудь разогреть борщ». Это потому что я его, бывает, холодным ем. Мне всегда лень борщ разогревать, ведь потом кастрюльку, в которой он грелся, мыть надо. Егорка взял записку и внимательно ее рассматривать начал.
— Гляди, — говорит, — как слова написаны, будто они вприпрыжку друг за другом бегут, а «б» какое-то обиженное!
Говорит, говорит, а на вазочку с вареньем даже не смотрит! И на бублик, который я пополам разломал — тоже!
— Егор, — говорю я, — ты что?! А он отвечает:
— Знаешь, Мишка, передумал я чай пить. Пойду лучше домой, дневник на месяц вперед заполню!
— Чего там! — обиделся я. — Ты и на май заполни, долго ли?
А он даже не заметил, что я обиделся.
— Май — это еще лучше! — говорит. Забрал свою тетрадь и ушел.
Сел я пить чай без Егорки — скучно! И варенье не сладкое, и бублик не вкусный.
Книжку про Дядю Федора, свою любимую, на кухню принес. Нет, все равно скучно!
И вдруг я понял, чего мне сейчас хочется! Правило про слово «наряжать» найти и дневник, включая май, заполнить!
Мне даже страшно стало! Вот до чего работа над ошибками доводит! Знала бы Мария Степановна!..

| Елена Ракитина |
Художник Ольга Граблевская | |
| Страничка автора | Страничка художника |